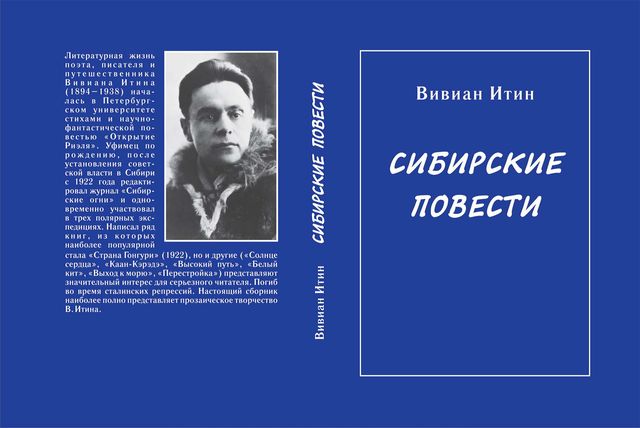
ВИВИАН ИТИН. ПРОЗА ПОЭТА
В 1922 году в сибирском городе Канске вышла в свет первая в советский период научно-фантастическая повесть “Страна Гонгури”. Ее автор, Вивиан Итин, популярный в 30-е годы литератор, писавший в разных жанрах (стихи, повести, пьесы, журнальные очерки), погиб в годы сталинских репрессий (1938).
Вивиан Азарьевич Итин родился 26 декабря 1893 года по ст. стилю (7 января 1894 г. по новому стилю) в губернском городе Уфа (ныне – столица Республики Башкортостан РФ) в семье адвоката Азария Александровича Итина.
Отец писателя, А. А. Итин (1859-1926), был известным в Уфе адвокатом. По неподтвержденным сведениям, его семья происходила из Белоруссии. Имел печатные труды, активно участвовал в общественной жизни города и благотворительности. По его инициативе в Уфе было открыто Коммерческое училище. Женившись, он купил дом с мезонином и садом (теперь улица Свердлова 69).
Мать, Зинаида Ивановна Короткова (1875-1942), происходила из купеческой семьи Коротковых, предки которых были вольноотпущенниками (бывшими крепостными) помешицы Алферьевой. В уфимской губернии такой помешицы не было.
Зинаида Ивановна была красивой и талантливой женщиной, играла в уфимском любительском театре в Уфе.
В семье Итиных было четверо детей: Валерий (1892-1942), Фаина (1893-1968), Вивиан (1894-1938) и Нина (1902-1998).
Если три из этих имен обычны в России, то имя Вивиан всегда вызывало дополнительные вопросы. На самом деле, в святцах оно идет непосредственно за именем Валерий. Поэтому, естественно, что второго мальчика в семье назвали этим именем.
Валерий Азарьевич Итин был хирургом. Учился в Казани. В советское время жил с семьей в Сталинграде. Мобилизованный, как хирург, погиб на транспорте “Сванетия”, который перевозил раненых и был потоплен фашистскими самолетами на пути из Севастополя в Сочи 17.4.1942 года. Валерий Азарьевич отдал свой спасательный пояс медицинской сестре, а сам утонул, как и многие другие. Оба его сына (Игорь и Святослав) также погибли во время Отечественной войны.
Фаина Азарьевна училась в Петербурге на бестужевских курсах, но затем вернулась в Уфу и жила с матерью.
Нина Азарьевна Итина, окончила биологический факультет Московского университета, стала доктором биологических наук, многолетней сотрудницей академика Л.А.Орбели. Пережила ленинградскую блокаду. После 80 лет писала стихи.
В возрасте 8 лет Вивиан заболел костным туберкулёзом. Длительное время его лечили в Крыму, в Алупке, в частном детском санатории доктора Изоргина. Мать часто жила с Вивианом в Алупке. Болезнь, практически, вылечили. Последние классы реального училища, дававшего более глубокие знания по точным наукам, чем гимназия, Вивиан заканчивал в Уфе.
Все эти события несомненно отразились на формировании его личности. Может быть, его склонность к мечтательности возникла и раньше: “.Сначала это пришло во время далёкого детства, когда я лежал с книжкой под головой в зелёной тени и стрекозы пели в небесной сини”. – писал Вивиан Азарьевич в “Стране Гонгури”. Эти ощущения отражены и в стихах:
Я был искателем чудес
Невероятных и прекрасных.
Для получения высшего образования Вивиан в 1912 году едет в Петербург. Год слушает лекции в Петербургском Психоневрологическом институте, возглавляемом В.М.Бехтеревым, основоположником русской экспериментальной психологии и знаменитым неврологом. Программа первого курса Бехтеревского института давала широкую подготовку по гуманитарным и естественным наукам. Фрагменты знаний работы мозга и физиологических механизмов сна и гипноза пригодились впоследствии при написании повести “Открытие Риэля”.
В 1913 году Вивиан поступает на юридический факультет Петроградского университета. Как в Психоневрологическом институте, так и на юридическом факультете, читал лекции правовед, проф. М.А.Рейснер. Михаил Андреевич выступал также с лекциями перед рабочей аудиторией.
Студентом Вивиан увлекся литературой, стал писать стихи и даже написал повесть “Открытие Риэля”, которую читал на заседаниях студенческого литературного кружка в 1915-1916 годах. Повесть студентам нравилась и Вивиан подготовил ее для печати. В 1917 году Лариса – дочь Михаила Андреевича Рейснера, впоследствии известная писательница, друг Вивиана с момента учебы в психоневрологическом Институте, отнесла рукопись в редакцию журнала “Летопись”, который редактировал А.М.Горький. Алексей Максимович повесть одобрил, принял в печать и пожелал встретиться с автором (“Две встречи с Максимом Горьким”, Сибирские огни, 1932, №11-12; Литературное наследство Сибири, 1969, т.1; сб. “Страна Гонгури”, Новосибирск, 1983). Однако, из-за революционных событий “Летопись” была закрыта, а рукопись пропала.
В это время любимый писатель Вивиана Итина – Г.Уэллс. М.А. Рейснер читал рабочим лекции о романе Г.Уэллса “Машина времени”. Профессора и студента объединяли романтические мечты о счастливом будущем человечества. В реальной жизни, после революции оба стали сотрудниками Наркомата юстиции и вместе с правительством в начале марта 1918 года переехали в Москву. Из Москвы Вивиан пишет Ларисе Рейснер в Петроград:
«16_3_918
Милая Лери –
Я не помню, когда мы виделись в последний раз. У Вас были очень далекие глаза и почему-то печальные и это казалось мне странным, так как юноши не верят Шопенгауэру, что счастья не бывает. Сегодня Екатерина Александровна сказала мне, что Вы больны, опасно больны и волны ее беспокойства передались мне и не утихают, как волны неаполитанской баркароллы в моем сознании и в Вашем. Екатерина Александровна сама такая бледная, такая озабоченная сновидениями жизни или тем, что они по необходимости преходящи, что стала совсем пассивной и утомленной, словно мир навсегда замкнулся красным, раздражающим коридором грязноватого отеля. Я спокоен, моя воля пламенеет больше, чем когда-либо, потому что я мало думаю о настоящей жизни, но я не знаю, как мне передать мое настроение. Будем выше. Ах, еще выше!
Я живу в прекрасном доме, среди сети переулков. Шестой этаж, дали полей, чистота, свет, тишина. Мы все любим большой покой и большие бури. Сейчас я культивирую то, что можно вспомнить только из Сыкун-Ту. Когда я бываю в Третьяковской галерее, я всегда открываю что-нибудь новое, никем незамеченное, но такое, после чего невозможно и скучно смотреть на другие картины.
Взор, ненасытный словно дух.
Тоску невероятных обладаний.
В Комиссариате всякие дрязги. В той Австралии, о которой мы так недавно мечтали, есть какие-то удивительные муравьи. Если разрезать насекомое на две части, то обе половинки начинают яростно сражаться друг с другом; так повторяется каждый раз, в течение получаса. Потом наступает смерть. Весь мир походит сейчас на такого муравья. Я страдаю только от одного.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Где бы мне найти друзей воодушевленных, одиноких или хотя бы только жадных, презирающих гнусное равенство! Что теперь говорят про людей? N – комиссар, Х – большевик, Z – контр.революционер. Это все; пусто.
Меня окружает скука. Впрочем, я не скучаю.
Я надеюсь, Вы скоро поправитесь и вернетесь, и мы будем встречаться. Целую Вашу руку.
Вивиан».
Летом 1918 года В. Итин едет в Уфу, повидаться с родителями. Из-за захвата Уфы 5 июля 1918 года частями Чехословацкого корпуса он не смог вернуться в Москву. Город был занят войсками адмирала Колчака. Оставаться в Уфе Вивиану, как сотруднику Наркомата юстиции советского правительства было опасно.
Он стал переводчиком одной из американских миссий, которая через Сибирь и Японию направлялась в США. В главе “Ананасы под березой” не оконченного романа «Конец страха» (Сибирские огни, 1933, №1-2), а также в «Стране Гонгури», есть описание миссии YMCA (The Young Men’s Christian Association) в Сибири.
“Они поступили переводчиками к группе секретарей YMCA, отправлявшихся в своей новенькой форме американских офицеров в Северную Азию”. – читаем мы в “Стране Гонгури”. “Они ехали проповедовать идеи креста и красного треугольника с помощью какао, сигареток и молитвенников. В сущности, это были славные ребята, обыкновенные путешественники от нечего делать, воспользовавшиеся богатым христианским союзом для своих целей. Всё их христианство сводилось, по традиции, к совместным молитвам по воскресеньям, во время которых они зевали, рассказывали анекдоты и курили манильские сигары. Когда янки были достаточно близко от границ, занятых войсками Республики Советов, переводчики покинули их без предупреждения.
Они торопились, но огненная завеса уже разделяла Сибирь от России. Тогда Гелий первый бросился в хаос первоначальной власти. Случайность: полтора года юридического факультета, сделали его членом революционного трибунала. Очень скоро стало безнадежно ясно, что борьба в Сибири против экспедиционных войск всего света и предателей всех сортов немыслима. Коммунистические отряды были разбиты и уходили в тайгу. С одним из них ушел Гелий”.
Так или иначе, ужасы гражданской войны В.Итин пережил:
И не понять не знавшим нашей боли,
Что значит мысль, возникшая на миг:
Ведь это я стою с винтовкой в поле,
Ведь это мой средь вьюги бьется крик!
О если бы не ряд потерянных
Друзей, встающий предо мной,
И длинный перечень расстрелянных,
Я б мог поверить в мир иной!
В 1920 г. В.А.Итин начал свою литературную деятельность в газете “Красноярский рабочий”, где редактировал “Бюллетень распоряжений” и литературный уголок “Цветы в тайге”. Там же были впервые напечатаны его стихи.
По партийной линии В.А.Итин был переведен на работу в город Канск. В Канске, в исполкоме, В.Итин был единственным человеком, учившимся в университете, поэтому его обязанности были разнообразны: он был завагитпропом, завполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда!
В Канск ему переслали рукопись “Открытие Риэля”, которая сохранилась “чудесным образом”. Переработав рукопись, В.Итин напечатал на бумаге, принадлежащей газете “Канский крестьянин”, книжку под названием “Страна Гонгури” (Канск, 1922). Он писал в кинотеатре после сеансов при свете коптилки.
Я живу в кинотеатре
С пышным именем “Фурор”
Сплю, накрывшись старой картой,
С дыркой у Кавказских гор.
Первое издание “Страны Гонгури” сохранилось только в некоторых крупных библиотеках: С.-Петербург, Москва, Томск. Личный архив писателя, в котором мог быть экземпляр первоначального текста, был конфискован и уничтожен НКВД. В течение 18 лет, с 1938 по 1956 год, все произведения репрессированного автора были под запретом, не издавались и не выдавались в библиотеках. Вплоть до реабилитации имя его нигде не упоминалось.
“Открытие Риэля” (“Страна Гонгури”) переиздавалась много раз, как при жизни писателя (Сибирские огни, 1927, №1; Сб. “Высокий путь”, М.-Л., 1927), так и после его гибели и реабилитации в 1956 году: в Германии, (Берлин, 1980, 1981 и Гамбург, 1987, 1988),
Новосибирске (1983), Красноярске (1985) и в Канске (1994) по канскому варианту (1922) с названием “Страна Гонгури”. В изданиe 1927г. года автор внес ряд добавлений и изменений, которые не понравились А.М.Горькому.
Вышедшие в Германии сборники научной фантастики с произведениями русских классиков редактор и составитель книги Всеволод Ревич назвал «Die Entdeckung Riels» --«Открытие Риэля». Известный немецкий специалист по славянской научной фантастике – Эрик Симон, в статье «Стругацкие в политическом контексте» (Quarber Merkur, #93-94, 2001) написал о ранних произведениях научных фантастов, что наиболее важные из них -- «Открытие Риэля» Вивиана Итина (1922, 1927) и «Страна счастливых» Яна Ларри (1931).
В гипнотических грезах Гелий под именем Риэль путешествует по Стране Гонгури. Страна находится на неизвестной планете вне Солнечной системы. На этой планете одновременно существуют два общества. Одно организовано по типу коммуны. Все достижения великих умов принадлежат народу. Памятники ставят не людям, а выдающимся событиям. В другом обществе главное – это личность. Памятники ставят людям. Риэль, родившись в первом обществе, предпочитает жить и творить во втором. На первый взгляд кажется странной гибель Риэля. Он принял яд, после того, как герой этого общества уничтожил его машину, его изобретение, которое стоило ему огромных усилий. Возможно, он не перенес невозможности постижения Истины, а может быть -- отрицания и уничтожения главного достижения всей своей жизни.
Страна Гонгури – это мечта о будущем цивилизованном обществе, где техника так совершенна, энергия так избыточна, что основные интересы людей находятся вне материальных забот. Главное – это наука, искусство.
А.Ф.Бритиков, автор книги “Русский советский научно-фантастический роман” (Л., 1970), высоко оценил “Страну Гонгури”. Благоприятная критика появляется и в других изданиях и статьях: Е.Брандис и В.Дмитриевский “В мире фантастики и приключений”, Л., 1963; Л.Н. Мартынов «День поэзии» ,1963, «Золотой запас», 1981, «Черты сходства», 1982,
«Воздушные фрегаты», 1985, «Безумные корреспонденты» ( жур. «Арион» № 4, 2005г.), «Дар будущему» М. 2008г., В.Ревич, 1985 и др.
“Открытие Риэля” включено в обзоры научной фантастики на французском и испанском языках. В Абакане (Хакассия) длительное время существовал клуб любителей фантастики под названием “Страна Гонгури”. Основатель клуба – Владимир Иванович Борисов. В.И.Борисову принадлежит первый сайт в интернете, посвященный Вивиану Итину. В последнее время Вивиану Итину ряд статей посвятили Сергей Баймухаметов («Мечта о Полинезии»,Русский Базар,2007; «Сибирский Джек Лондон», Московская Правда, 2008), и Г.Прашкевич («Красный сфинкс», Новосибирск, 2009г.) и др.
Из Канска В.А.Итин переезжает в Новониколаевск (старое название Новосибирска). Он отказался от “номенклатурных” должностей, и до конца жизни связал свою судьбу с журналом “Сибирские огни” – литературно-художественным журналом, выходившим в свет в Новониколаевске с 1922 года, и с писательской организацией Западной Сибири.
В 1922 году В.А.Итин активно печатается в “Сибирских огнях”. В этом году опубликована пьеса “Власть”, много стихотворений и рецензий, в том числе рецензия на стихи расстрелянного чекистами поэта Н.С.Гумилева. “Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией”. В 1923 году “Сибирские огни” печатают антивоенную повесть “Урамбо”. Стихи выходят также отдельным сборником “Солнце сердца” (Новониколаевск, 1923).
Стихи В.А.Итина были переизданы лишь в 2007г. (Минск, «Книгосбор»).
Вивиана Итина называли собирателем литературных сил Сибири. Под его редакцией вышел поэтический сборник “Вьюжные дни” (Новониколаевск, 1925). В этот сборник, наряду с другими авторами, включены стихи молодого поэта Леонида Мартынова, который считал Вивиана Азарьевича одним из своих учителей и очень тепло отзывался о нем. В сборнике “День поэзии” за 1963 год Л.Н.Мартынов писал: “.час воскрешения Вивиана Итина, этого жестоко и бессмысленно погубленного в годы массовых репрессий поэта, настал. Пора по-настоящему воздать должное этому большому художнику слова. Вивиан Итин прежде всего поэт и даже вся его проза – это проза талантливого поэта, будь это даже полемические статьи по вопросам художественного творчества или по вопросам кораблевождения в полярных морях. Полёт поэта кончился трагически. Но осталась не горка праха, а книги. И всё это полно страсти, полно мысли”.
Жизнь была полна событиями, на которые В.Итин живо откликался. Развитие науки и техники, первые полёты на самолётах. Первый в Сибири гражданский самолёт “Сибревком” вел пилот Иеске. Вивиан Азарьевич летит с ним. На севере Ачинского округа – неисправность и посадка в тайге. Алтайцы называли самолёт “Каан-Кэрэдэ”, по имени волшебной птицы, которая в их сказаниях переносила людей из долины в долину через горы. Романтике этой встречи прошлого и настоящего посвящена повесть “Каан-Кэрэде”, впервые напечатанная в “Сибирских огнях” в 1926 году. В 1929 году, по сценарию, написанному автором, был снят фильм на ту же тему в Ленинграде. Лётчикам также посвящен рассказ “Люди” (1927г.).
В 1926 году, на Первом съезде сибирских писателей, В.А.Итина выбирают секретарем правления, в 1934 году – ответственным редактором “Сибирских огней” и председателем правления Западно-Сибирского объединения писателей, а также делегатом Первого Всесоюзного съезда писателей. Дважды ему присуждают краевую литературную премию им. А.М. Горького.
С 1926 года начинаются северные путешествия В. Итина в качестве журналиста и сотрудника Комсеверпути. Глубокое изучение истории мореплавания в арктических морях и перспектив развития экономики Сибири сделало его горячим сторонником морского варианта решения транспортной проблемы севера Сибири, сторонником Северного морского пути.
Летом 1926 года он участвовал в гидрографической экспедиции по исследованию Гыданского залива Карского моря.
В 1929 году В.Итин совершил большое путешествие по западной части Северного морского пути, сибирским рекам и морям Европы. Пройдя по Оби на пароходе «Сибкрайком» от Новосибирска до Нового порта, а затем пересаживаясь с одного иностранного судна на другое (знание английского языка этому помогало) он дважды пересекает Карское море (Обь -- Югорский шар -- устье Енисея -- Игарка). После подробного знакомства с бурно растущей Игаркой (вплоть до фотографий с самолета), в третий раз пересекает Карское море от устья Енисея до Югорского шара, и оттуда на легендарном ледоколе «Красин» доходит до Ленинграда, через Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.
В 1931 году В.А.Итин выступил с докладом “Северный морской путь” на Первом Восточно-Сибирском научно-исследовательском съезде в Иркутске, там же докладывал известный академик А.Е.Ферсман. На этом съезде Вивиан Азарьевич получил приглашение принять участие в предстоящем колымском рейсе из Владивостока. Он пошел в этот рейс на “Лейтенанте Шмидте” с капитаном Миловзоровым. “Лейтенант Шмидт” достигает устья Колымы и зимует, а В.Итин возвращается в Новосибирск сухопутным путем, передвигаясь на собаках и оленях.
По материалам северных путешествий написан ряд книг: “Морские пути Советской Арктики”, “Колебания ледовитости арктических морей СССР”, “Выход к морю” и др. Книги написаны на высоком научном уровне -- это сама жизнь, история, экономика, география и этнография. Очерки о путешествиях («Выход к морю») снабжены историческими справками. В них не только описаны и участвуют мужественные капитаны (В.И.Воронин, Н.И.Евгенов и др.), путешественник на велосипеде по арктической тундре – Глеб Травин, летчик Б.Г.Чухновский и другие интересные люди той эпохи, но приводятся экономические обоснования необходимости подобных рейсов (тогда еще надо было доказывать выгодность доставки грузов Северным морским путем, а не строительства железной дороги в зоне вечной мерзлоты). Памятником этой эпохе остались три паровоза, вмерзшие в тундру с именем Сталина на боках и описанные Александром Городницким («И вблизи, и вдали», М. 1991г.). Идея Северного морского пути победила.
Всё это требовало широких знаний, приобретаемых путём самообразования, достижения уровня подлинного учёного; это отмечено в очерке доктора географических наук С.Д.Лаппо, профессора МГУ, который сам много путешествовал, в том числе с известным полярником И.Д.Папаниным, и был знаком с В.А.Итиным по работе в Комсеверпути.
Под впечатлением рассказов моряков ледокола “Красин”, написана повесть “Белый кит”. В этой повести обобщен опыт разных полярных экспедиций. Один из героев повести, норвежский ученый и путешественник Нордаль, более всего напоминает знаменитого полярного исследователя Руала Амундсена, погибшего при попытке найти команду потерпевшего аварию дирижабля «Италия» в 1928г.
Вместе с тем в книге участвует и вполне реальный капитан В.И.Воронин, что сближает повесть с очерком. Впечатления от путешествий отразились и в стихах.
Известность. Интересная работа. Но было и другое: недружелюбная критика, часто отсутствие понимания, такта, борьба литературных течений, скрывающая борьбу за власть. и материальное благополучие.
Вивиан Итин был независимым и гордым человеком. В письме к А.М.Горькому звучат печальные слова о помехах в работе: «.Зависть, бюрократизм, глупость были, есть и не скоро переведутся. Литература всегда была ненавистна. Она причиняет беспокойство».
Он много читал, интересы его были разнообразны, ничем не занимался поверхностно. Ряд стихотворений и очерков связан с его научными интересами («Двойные звезды», «Драгоценные секунды» и др.):
Я только что прочел о книге Нернста.
Еще одна попытка светлого ума
Сказать: я – миг, но после тьмы
Вселенная, доказано, бессмертна.
И долго я внимательно следил
За превращеньем атомов и сил.
Путешествуя по Сибири, Вивиан Азарьевич видел, как много там сосланных и заключенных. В некоторых своих произведениях он упоминал о своих наблюдениях, как бы пытаясь обратить внимание на эти печальные факты. В то время большинство людей еще ничего не знало о масштабах сталинского террора.
В стихотворении “Скованный Прометей”, опубликованном в 1937 году (!), В.Итин писал:
Я только раб тирана олимпийца,
Прикованный к скале Кавказских гор,
И мой палач – пернатый кровопийца,
Опять на мне покоит хищный взор.
В 30-е годы популярность В.Итина, поддержка А.М.Горького, позволяла иногда печатать в “Сибирских огнях” кое-какие “вольности”. Московские цензоры были бдительнее.
В 1937 году была написана пьеса “Козел”. Новосибирский театр “Красный факел” принял пьесу к постановке, но репертком (цензура) пьесу не пропустил. Копия пьесы сохранилась в Москве, в Центральном Государственном литературном архиве, вместе с ответным письмом В.А. Итина. Пьеса так и не была опубликована.
Некоторые высказывания в произведениях Вивиана Азарьевича казались московским цензорам опасными и после смерти Сталина, и после восстановления В.А.Итина в правах члена Союза писателей.
Вивиан Азарьевич Итин был арестован 29 апреля 1938 года, обвинен в шпионаже в пользу Японии (теперь стало известно, что Новосибирский НКВД получил приказ из Москвы об усилении борьбы с японскими шпионами) и расстрелян 22 октября 1938 года в Новосибирске. Ему было всего 44 года! В 1956г. он был посмертно реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
В.А.Итин был талантливым, образованным, честным и смелым человеком. Он попал под колесо истории, как и многие другие интеллигентные люди его времени. “Только убив самого художника”, – читаем мы в “Стране Гонгури”, – “мы навсегда убьем его творчество. Храм, разрушенный варварами, все еще живет в душе порабощенного народа, храм, разрушенный в душе художника, – погиб навеки”.
---------------------
В настоящем сборнике опубликованы произведения В.И.Итина не переиздававшиеся с 20-х – 30-х годов прошлого века или вошедшие в сборник «Страна Гонгури» 1983 г. с большими сокращениями. Они представляют интерес для современного читателя прежде всего как портрет эпохи. В ряде повестей и очерков широко использован автобиографический материал свидетеля и участника революционных и военных событий 1917 – 1920 гг., участника первых полетов в Сибири и освоения Северного морского пути. В некоторых случаях проза В.Итина – единственный источник биографических сведений о нем.
Помимо известной научно-фантастической повести «Страна Гонгури», в сборник включены произведения 1922-1933гг., посвященные событиям Первой мировой войны, революции и гражданской войны, антивоенная повесть «Урамбо» (1923г.), пьеса «Власть» (1922г.), повести «Сон Люцифера» и «Ананасы под березой» (1933г.). Эти две повести печатались в «Сибирских огнях» как главы не оконченного романа «Конец страха».
Огромные расстояния между центром и периферией, плохое состояние дорог требовали срочного развития авиации. Своей авиапромышленности не было, ее еще предстояло создать. В большей части страны никогда не видели самолета. Тем не менее, уже в середине 20-х годов начинаются дальние перелеты с пропагандистской и спортивной целями – пока на иностранных машинах, освоенных советскими летчиками.
Авиация давно привлекала внимание В.Итина – поэта: «Знак бесконечности», «Через океан». Теперь он активно включается в эту работу, участвует, в качестве корреспондента, в перелете самолета «Сибревком» на Алтае. Литературным результатом были повесть «Каан-Кэрэдэ» и рассказ «Люди» («Высокий путь»),1927г., включенный в настоящий сборник.
Участие в экспедициях Комсеверпути дало богатый материал для художественных произведений в стихах и прозе, публицистики и научных монографий по проблемам мореплавания в морях Северного ледовитого океана. Большая статья известного исследователя Арктики С.Д.Лаппо, встречавшегося с В.Итиным в период его активного участия в работе Комсеверпути, помещенная в начале сборника, интересна личной характеристикой писателя как ученого и полярного исследователя.
В сборник включены опубликованные в 1929 г. главы из не оконченного романа
«Чистый ветер» («Страна будущего» и «Енисей»), представляющие самостоятельные новеллы, и главы из книги очерков «Выход к морю» (1931, 1935 гг.), не вошедшие в сборник «Страна Гонгури» 1983 г.:
-- «Советская Мангазея», очерк об Игарке -- новом порте на Енисее;
-- «Город, где дождь лил сорок дней и сорок ночей, а воду покупали заграницей», очерк о Владивостоке, из которого В.Итин отплывал в очередной Колымский рейс 1931 года на судне «Лейтенант Шмидт»;
-- «Гибель «Чукотки», очерк об этом рейсе, во время которого шхуна «Чукотка» затонула, затертая льдами;
-- «Земля стала своей», о легендарном путешественнике-велосипедисте Глебе Травине, проехавшем и прошедшем вдоль всего побережья Северного ледовитого океана.
В сборник включена также глава «Нордаль» из повести «Белый кит».
В большой статье «Завоеватели Северного полюса», написанной сразу после завершения экспедиции первой полярной станции на плавающей льдине СП-1, в 1938 году, прослежена вся история многократных попыток достичь этой условной «вершины земного шара». Это была последняя статья Вивиана Итина .
«Драгоценные секунды» -- статья, написанная в 1936 году о международном лагере ученых под Омском, наблюдавших полное солнечное затмение 19 июня 1936г. Помимо описания самого уникального события, статья интересна рядом интервью с советскими и зарубежными астрономами. Большинство ведущих советских астрономов через несколько месяцев было арестовано по состряпанному НКВД «пулковскому делу» и репрессировано. Профессор ЛГУ И.Балановский, с которым разговаривал В.А. Итин, погиб в тюрьме.
В то же время зарубежные ученые, Т.Банахевич и Дж.Кэрролл, вместе с которыми Вивиан Азарьевич наблюдал затмение, успешно продолжали работать у себя на родине.
Печальным совпадением с солнечным затмением была смерть А.М.Горького (см. статью «Друг и учитель»).
«Сибирские огни» был вторым по времени начала выхода (1922г.) литературно – художественным журналом Советской России. А.М.Горький все время внимательно следил за литературными делами в Сибири и поддерживал журнал. Сохранилась переписка Горького и Итина, включенная в публицистический раздел сборника – 10 писем Итина и 2 письма Горького. Часть писем Горького, по-видимому, находилась в личном архиве В.Итина, конфискованном при аресте и не возвращенном.
В качестве заведующего отделом поэзии журнала, а затем и ответственного редактора, Вивиан Итин неоднократно выступал с докладами и в печати с подробным анализом литературного процесса в Сибири. В то время шли острые дискуссии о путях советской литературы, шла борьба с различными группировками писателей и критиков, пытающихся представить низкий уровень произведений в качестве «новой», «пролетарской» литературы. В сборнике представлены основные доклады и статьи В.Итина, выражающие его взгляды, а также оценку наиболее интересных произведений, печатавшихся в «Сибирских огнях»: «Поэты и критики» (1927), «10 лет «Сибирских огней» (1933), «Литература и критика» (1934) и «Литература советской Сибири» (1934).
Завершает сборник библиография основных произведений В.А.Итина.
Л.В.Итина, В.Е.Ямайкин
Составители сборника Л.В.Итина, В.Е.Ямайкин, И.В.Ямайкина искренне благодарят внука писателя А.В.Ямайкина за постоянную неоценимую помощь при подготовке этой книги.

Отец Вивиана – А.А.Итин

Мать Вивиана – З.И.Итина (Короткова). Портрет худ. Л.Н.Петухова.

Братья: Вивиан, Валерий и Александр Иванович Глазырин (двоюродный
брат, физик). 1926г.

Вивиан Итин – студент университета. Петроград.

Группа сибирских писателей; в центре – Лидия Сейфулина, справа от нее –
Вивиан Итин, Иван Ерошин. 1923г.

В.А.Итин с женой Агрипиной Ивановной и дочерью Ларисой. 1927г.

Вивиан Итин с молодыми поэтами Леонидом Мартыновым (слева) и
Н.Ановым. 1928г. (В.Вайнерман. «Три снимка с Мартыновым».
Из архива Н.В.Феоктистова).

Вивиан Итин в 1938г.
С.Д.Лаппо.
ПЕВЕЦ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Сергей Дмитриевич Лаппо (1895 -- 1972) – доктор географических наук, полярный исследователь, участвовавший во многих арктических экспедициях, был помощником начальника Карских экспедиций. Его именем назван полуостров на севере Красноярского края.
В 1938г. С.Д. Лаппо возглавил Службу льда и погоды Арктического Института. Во время войны находил наиболее безопасные пути для транспортов, идущих в северные порты с Запада. С 1946г. руководил авиаразведкой моря Лаптевых. В 1950 году стал профессором МГУ.
С Вивианом Азарьевичем Итиным познакомился, работая в Комсеверпути в Новосибирске. Текст статьи Сергей Дмитриевич прислал для публикации Ларисе Вивиановне Итиной в г. Минск в 1971году.
Статья была отправлена в журнал «Сибирские огни» и опубликована, но в очень сокращенном виде. Так как каждая фраза этой статьи тесно связана с жизнью и деятельностью В.А.Итина и теми произведениями, которые включены в настоящий сборник прозы, мы решили повторить её публикацию.
С Вивианом Азарьевичем Итиным я встречался в г. Новосибирске, работал в «Комсеверпути» (1927-1930гг.). Мне было известно, что по профессии В.А.Итин -- писатель, но в то время не был знаком с его творчеством.
В 1926г. Вивиан Азарьевич (в дальнейшем В.А.) участвовал в гидрографической экспедиции на пароходе «Север» по обследованию Гыданского залива, расположенного между Обской губой и Енисейским заливом. Это первое арктическое плавание весьма отразилось на его дальнейшем творчестве. Арктические морские просторы с плавучими, грозными льдами, по-видимому, очаровали его поэтическую душу.
Во время плавания на пароходе «Север» В.А. подружился с моряками-гидрографами, увидел их увлекательный самоотверженный труд, в результате которого открывались и наносились на карту очертания, до того времени еще не известных, проливов, заливов, островов и полуостровов, а также выяснялся рельеф морского дна. Надо отметить, что морская карта Гыданского залива впервые была составлена в советское время.
Обыкновенно В.А. заходил в «Комсеверпуть» в рабочее время. Сколько раз я ни встречался с ним, он был, как казалось мне, всегда в хорошем настроении; но на его лице во время разговора часто появлялась снисходительная улыбка, при этом в прищуренных глазах светился огонек.
Меня смущала эта улыбка, может быть потому, что за ней скрывались далеко идущие мысли о перспективах нашей работы по освоению Северного морского пути, к которому все сибиряки относились с большим энтузиазмом.
Дальнейшее подтвердило, что мысли В.А. не ограничивались Обь-Енисейским севером. Он видел морской путь, как путь в океан, на запад и на восток от Обь-Енисейского залива. Об этом свидетельствуют труды В.А.Итина: «Выход к морю» (1931г.), «Восточный вариант» (1932 г.), «Морские пути Советской Арктики» (1933г.), «Колебания ледовитости арктических морей СССР» (1936 г.) и др.
Труды Вивиана Азарьевича относятся ко времени, когда арктические моря еще не были изучены (этого нельзя забывать). Они поражают, одновременно с литературной образностью, проницательностью и правдивостью описания природных условий полярных навигаций.
Очерки «Обь-океан» и «Восточный вариант», вышедшие во втором издании в 1935г. под общим названием «Выход к морю», написаны в результате участия Вивиана Азарьевича в Карской экспедиции в 1929г. и в экспедиции из Владивостока в устье реки Колымы в 1931 году. В.А. Итин участвовал в этих экспедициях не как посторонний наблюдатель – корреспондент и писатель, а как бы хозяин, непосредственно заинтересованный в успехе предприятия и болеющий за него, наблюдающий за всем и видящий положительные и отрицательные стороны.
Отправляясь в плавание по Северному морскому пути, В.А. предварительно изучил историю арктических экспедиций, обращая внимание на состояние льдов. Благодаря этому во время арктического плавания В.А. легко мог ориентироваться в окружающей обстановке и находить общий язык с моряками и полярниками.
Составив определенное представление о Северном морском пути, В.А. хотел убедиться в правильности самой его идеи и самому лично ознакомиться с условиями арктического плавания.
«В 1929 году я выехал из Новосибирска вниз по Оби с тем, чтобы дойти Северным морским путем до Ленинграда с ледоколом «Красин» и, таким образом, на деле ознакомиться с ходом Карской экспедиции», пишет Вивиан Азарьевич в начале своих очерков «Обь-океан» (В.А.Итин, «Выход к морю». Новосибирск,1935г., стр. 10).
----------------
Воображение В.А. рисовало в будущем -- плакат на белой переборке дебаркадера в Новосибирске. Плакат будет говорить об условиях пассажирского сообщения с портами Западной Европы по Северному морскому пути. Реальность своей мечты он доказал.
Из Новосибирска по Оби и Обской губе до бухты Новый порт, В.А. совершает путь на теплоходе «Сибкрайком», с гружеными лихтерами на буксире. Из бухты Новый порт через Карское море до Югорского Шара В.А. плывет на старом английском угольщике «Сингльтон абби» с грузом волокна, пихтового масла и другим сибирским экспортом. Затем, после пребывания на Югорском Шаре, В.А. отправляется на норвежском пароходе «Рендаль» в Игарку, где участвует в полете с Б.Г. Чухновским, чтобы сфотографировать порт; в тот год началось строительство этого нового арктического города и порта.
27-го сентября на пароходе «Рендаль» В.А. в третий раз совершает путь через западную часть Карского моря в Югорский Шар, откуда на ледоколе «Красин» 5-го октября отправляется в Ленинград через Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.
В.А. заканчивает очерки своего плавания следующими словами: «Путешествие Новосибирск -- Ленинград, первое в истории, закончилось». Этими словами В.А. как бы хотел обратить внимание читателей на правильность своей идеи, не на словах, а на деле, о возможности морских пассажирских сообщений из Сибири в западные порты.
После плавания по Оби и Карскому морю, посещения бухты Новый порт и Игарки, В.А. посылает из Югорского Шара с ледокола «Красин» радиограмму в Новосибирск: «пытаюсь запечатлеть на маленьком клочке бумаги все свои жаркие мысли». А жарких мыслей у него было действительно много, как у пытливого наблюдателя, вникавшего во все дела Северного морского пути.
Подтверждая возможность и необходимость крупных морских операций Северным морским путем, В.А. призывает с настойчивостью готовиться к тяжелым ледовым годам; обращает внимание на недостатки ледовой авиаразведки (Карская экспедиция в 1929 году имела всего один пригодный для ледовой разведки самолет), на необходимость использования судов с ледовым креплением корпуса, на желательность возможно большего использования советских судов, на необходимость технического оборудования бухты Новый порт, где «… с одной стороны много кораблей, а с другой… кустарной работы…». Кстати сказать, в бухте Новый порт в Обской губе открыто крупное месторождение подземного газа и нефти, что поднимает её экономическое значение, как морского порта в устье реки Оби.
В очерках «Обь – Океан», описывающих различные картины Карской экспедиции, включая рабское положение матросов на английских торговых судах, находит место и юмор. Особенно это относится к рассказам о пребывании в кают-компании английского и норвежского пароходов.
Наш ледокол «Красин» В.А. в шутку называет «углесжирателем» за то громадное количество угля (во время хода около 100 тонн в сутки), которое сжигалось в его топках.
В море, когда вы пересекаете большие морские просторы и переходите от берегов одной страны к берегам другой, как-то шире представляется земной шар. Естественно, что морское плавание не могло не вызвать у В.А. поэтических чувств. Так на пароходе «Рендаль» при подходе к острову Диксон, свои впечатления В.А. выражает в стихах:
…Пройдя рекою и веками,
Мы выйдем на оленьи мхи…
"Карга-Урек","Ефремов Камень"--
Вот музыка имен моих.
Там, в промежуток вечных бурь,
Ведут веселую игру
Вокруг задумчивой стамухи
Большие быстрые белухи.
И там, где трупом лег "Вайгач",
Я видел, набивая трубку,--
Большой медведь умчался вскачь
И скрылся в штурманскую рубку.
…………………………………
Поэтической душе В.А. не могло не понравиться море, хотя во время плавания на
«Сингльтон абби» в Карском море и на «Красине» в Баренцевом море ему пришлось перенести многодневный шторм. Во время шторма крен на ледоколе «Красин» достигал 35 градусов. В Карском море В.А. записал: «Мы идем не видя берегов. Вокруг расстилается свободное тёмнозелёное море. Прекрасное море! Я люблю его потому, что оно требует знания, отваги и опыта» (стр.39).
Плаванием из Новосибирска в Ленинград не заканчивается знакомство В.А. с Северным морским путем. Его интересует Северный морской путь на всем его протяжении. После участия в Первом Восточно-сибирском научно-исследовательском съезде, который проходил весной 1931 года в Иркутске, В. А. Итин отправляется во Владивосток для участия в морской экспедиции в устье реки Колымы. Эти экспедиции получили название «Колымских рейсов».
В 1931 году на Колыму направлялась шхуна «Чукотка», пароход «Колыма» и пароход «Лейтенант Шмидт», причем последний впервые шел Северным морским путем, хотя не имел никаких приспособлений для ледового плавания. Успешность плавания рассчитывалась на опытность капитана Павла Георгиевича Миловзорова, имя которого вошло в историю освоения Северного морского пути.
Надо сказать, что участок пути от Берингова пролива до устья Колымы, через Чукотское и Восточно-сибирское моря является весьма ледовитым: под действием северных ветров здесь мощные полярные льды подходят к самому берегу, препятствуя плаванию судов. Поэтому рейсы из Владивостока в Колыму часто оканчивались зимовкой судов у северных берегов Чукотки. Достаточно вспомнить, что здесь зазимовала «Вега» экспедиции Норденшельда, «Мод» Амундсена и здесь был раздавлен наш «Челюскин».
В первых числах июля на пароходе «Лейтенант Шмидт», поместясь в командирской столовой, В.А. Итин отправляется в Колымский рейс, перенося все тяготы сурового плавания вместе с командиром и командой.
С трудом, пробираясь сквозь льды и взрывая аммоналом ледяные перемычки, через два месяца от начала плавания, в начале сентября «Лейтенант Шмидт» достиг реки Колымы, и, из-за позднего времени, остался зимовать в Чаунской губе. Отсюда В.А. возвратился в Новосибирск сухопутной дорогой, передвигаясь по Чукотке и Якутии на собаках и оленях.
Плавание из Владивостока в Колыму В.А. описывает в очерках «Восточный вариант», сочетая историю и действительность с присущим ему мастерством.
И здесь – на востоке, в водах Тихого океана, В.А. выражает любовь к морю, не страшась сурового плавания. «Море, так сказать, сплошная дорога. Иди куда хочешь… Я люблю море, а еще больше морскую жизнь. Корабль – это ударная бригада. Всё на нем чётко, ясно, выверено» (стр.136)
Суда Колымского рейса, в том числе пароход «Лейтенант Шмидт», были загружены самыми разнообразными хозяйственными грузами. Их палубы загромождали строительные материалы, бочки с горючим, большие кунгасы для выгрузки имущества на берег. Кроме того, на судах ехали пассажиры, в том числе семейные – с женами и детьми, для которых не было соответствующих помещений.
Плавание в Колыму осложнялось отсутствием ледовой разведки, обслуживания ледоколом, а также отсутствием навигационного ограждения и гидрометеорологической службы. Единственным средством выбора пути среди плавучих льдов служило «воронье гнездо» -- бочка на мачте, откуда капитан управлял судном.
В.А. интересовался не только условиями плавания по Северному морскому пути, но также широким кругом вопросов, включая историю и экономику народов Крайнего Севера. На фактории в Уелене В.А. поражает разнообразие и высокое качество изготовленной чукчами обуви из нерпичей кожи, которая «могла бы найти отличный сбыт на всех наших промыслах, рыбалках, сплавах…», и на сделанные чукчами фигурки из моржовой кости.
В Уелене В.А. неожиданно встречает оригинального путешественника вокруг света на велосипеде – Глеба Травина.
Освоение Северного морского пути В.А. считал делом воли, упорства и организованности, поэтому героическое путешествие Глеба Травина из Архангельска до Уелена, по всему побережью Северного морского пути, было особенно ему по душе.
В.А.Итин рассказывает об отдельных моментах этого путешествия и рисует его героя, который «представлял из себя парня в легких полуботинках, шерстяных чулках, рейтузах, кожаной куртке с воротником, а на голове, вместо шапки, копна волос и лаковый козырек, на ремешке, чтобы пряди не лезли в глаза.» ( стр.167)…
…В 1931 году у северных берегов Чукотки было много льдов. Суда с трудом продвигались, лавируя между льдами. В середине между Беринговым проливом и устьем Колымы около мыса Рыркарпий (он же Северный, а теперь мыс Шмидта) лёд был особенно сплочен. Пытаясь пройти вперед, шхуна «Чукотка» была раздавлена льдом. Экипаж шхуны по льду частично перешел на пароход «Колыма», частично на пароход «Лейтенант Шмидт». В.А. был свидетелем этой арктической трагедии и рассказывает о ней в своих очерках.
«Я и сейчас ясно вижу эти мерцающие льды, навсегда оставшиеся в памяти. Среди белых полей глаз невольно искал высокие мачты «Чукотки»… Но вместо красавицы- шхуны на карте остался только маленький крестик» (стр.224) -- так переживал В.А. гибель этого корабля.
Во время стоянки у мыса Рыркарпий в ожидании, когда южный ветер отгонит льды, В.А.Итин предложил выгрузить на берег и установить радиостанцию, которая находилась среди колымских грузов на пароходе «Лейтенант Шмидт». В.А. отлично понимал важное значение радиостанции на мысе Рыркарпий (Шмидта) для наблюдений и извещения судов о состоянии льдов и погоды. Мыс Рыркарпий поднимается высоко над морем, оканчивается двумя обрывистыми утесами. Предложение В.А. было принято и так появилась новая радиостанция, очень важная для навигации по Северному морскому пути, в чем несомненная заслуга В.А. Сейчас там расположился радиоцентр, с мощной аппаратурой.
Муза не покидала В.А. и в томительные дни вынужденной стоянки у мыса Рыркарпий.
Я иду по берегу Полярного моря.
Великие льды преградили нам путь,
С вершины Рыркарпия бел и недвижен
Пролив Лонга.
Я иду по берегу Полярного моря.
Льды надвинулись к самым моим ногам,
И даже дно морское замерзло.
Год тяжелый, лёд.
Южный ветер, подуй!
Вот когда моряки просят шторма!
Но ветер спит.
(стр. 228).
Только в конце августа у северных берегов Чукотки лёд разредился и в начале сентября «Лейтенант Шмидт» осторожно подошел к песчаным косам Колымы.
Очерки «Обь-Океан» и «Восточный вариант» дают картины Северного морского пути на двух его крайних участках, различных по своим физико-географическим особенностям – гидрографии, режиму ветров и характеру морского льда.
Очерки с исключительной правдивостью, без всякой экзотики, рисуют Северный морской путь и рассказывают о скромной работе советских моряков в первый период освоения Арктики. В очерках мы получаем полное представление об организации плавания по Северному морскому пути в то время.
В.А. метко подмечает черты руководителей арктических экспедиций –- гидрографа Евгенова, капитанов Черткова, Сорокина, Миловзорова, Сергеевского, лётчика Чухновского и других. В.А. разделяет обиду дальневосточных моряков о том, что мало кто знает о трудных ледовых походах в Колыму на слабых грузовых судах через Чукотское и Восточносибирское моря, в то время как каждый поход на Землю Франца Иосифа и в Карское море освещается в печати, окружается вниманием. В конце 20-х годов в Москве появилось учреждение под названием «Комиссия содействия сооружения Великого Северного пути», которое возглавлял инженер И.М.Воблый; идейным вдохновителем его был художник Борисов, совершивший в свое время неудачное плавание к Новой Земле. Работники комиссии пропагандировали в печати постройку Северной железной дороги от Мурманска до Тихого океана и при этом всячески старались дискриминировать Северный морской путь.
Необоснованная дискриминация Северного морского пути, с одной стороны, и экономическая необоснованность строительства Северной железной дороги в пустынных областях севера в условиях сурового климата и вечной мерзлоты – с другой, вынудили В.А. выступить с возражениями сначала в прессе, а потом выпустить экономико-географический обзор – « Морские пути Советской Арктики» (Изд-во Советская Азия, М.,1933 год). В этом обзоре В.А.Итин рассматривает особенности состояния льдов в навигационное время на отдельных участках Северного морского пути и намечает наиболее рациональное направление грузопотоков. Подмечая оппозицию в состоянии льдов, с одной стороны, в Карском море, с другой – в Чукотском, объясняющуюся различными гидрографическими и гидрометеорологическими условиями, В.А. Итин делает из этого наблюдения научные и практические выводы об известной закономерности в изменчивости ледовитости арктических морей и возможности планирования перевозок, в зависимости от состояния льдов на отдельных участках пути.
В.А. говорит о выгодности сквозного плавания по Северному морскому пути не только с запада на восток, но и в обратном направлении, о желательности плавания в устье Лены с запада, о необходимости создания флота на арктических реках (Хатанга, Оленек и др.), о рациональности смешанных перевозок река-море, об использовании пути по реке Лене и т.д. «Надо планировать не рейсы в Лену, а рейсы из Лены к устью соседних рек – Хатанга, Анабара, Оленек, Яна, Индигирка и Колыма».
Все эти положения, высказанные В.А.Итиным 35 лет тому назад, когда еще большая часть Северного морского пути не была изучена и освоена в отношении навигации, нашли подтверждение в жизни. Плавание в устье Лены с запада через пролив Вилькицкого и смешанные грузоперевозки рекой и морем теперь сделались обычным делом. В арктическом морском порту Тикси, численность населения которого теперь достигает 5 тысяч, находится специальное каботажное пароходство для перевозки грузов из устья Лены на запад до Хатанги и на восток до Колымы.
После сооружения железной дороги от Тайшета до Усть-Кута (Осетрово), использование реки Лены приобрело особенно большое значение: в настоящее время из Западной и Восточной Сибири по реке Лене отправляются все грузы, предназначенные для Тикси и других арктических портов.
Увлекаясь проблемой Северного морского пути, В.А. пишет чисто научно-исследовательскую работу: «Колебания ледовитости арктических морей СССР» (Н.Сибирцев и В.Итин «Северный морской путь и Карские экспедиции». Зап.-Сиб.изд-во, Новосибирск, 1936г.).
Эта работа, одна из первых по данной теме, до сих пор имеет актуальное значение. В основу исследования положены данные о состоянии льдов в Карском и Чукотском морях с 1900 по 1934 год. В то время систематических наблюдений над льдами арктических морей еще не было и материалы приходилось собирать по различным русским и иностранным источникам.
Придавая большое научное и практическое значение вопросу изменчивости ледовитости арктических морей, в начале работы В.А.Итин пишет: «Изучение причин изменчивости ледовитости полярных морей, является одной из самых увлекательных задач советской науки в Арктике… Установление закономерностей и связей между явлениями в этой области приобретает глубокое практическое значение не только как путь для правильных долгосрочных предсказаний состояния льда, с целью обеспечения успеха полярной навигации, но и для службы погоды в целом».
Как известно, в настоящее время Арктическим Институтом создана целая наука по долгосрочному прогнозированию состояния погоды и льда на арктических морях, которая легла в основу освоения Северного морского пути. В то же время В.А. понимал, что плавание по Северному морскому пути исторически «развивалось или прекращалось под влиянием экономических и политических причин, а не в зависимости от состояния льдов», и что использование Северного морского пути в экономических целях не имеет прямого отношения к состоянию льдов моря: главную роль здесь играют «исскуство мореплавания и настойчивость организаторов»… Полезность этих выводов В.А. Итина не теряет своего значения до сих пор…
…На фоне, приведенной выше, краткой исторической справки можно видеть, что Вивиан Азарьевич Итин, постоянный сотрудник журнала «Сибирские огни» с 1922 по 1938 год, был действительно одним из первых советских корреспондентов и писателей, совершивших плавание Северным морским путем и посвятивших этой прблеме свои труды. Можно сказать, что Вивиан Азарьевич, так сказать, проложил Северный морской путь в литературе, на заре освоения этого пути советским народом и в этом его большая заслуга.
Заканчивая свои воспоминания о В.А.Итине, хотелось бы пожелать, чтобы его очерки, которые и сейчас читаются с большим интересом, были переизданы.
----------------------------------------------------
СТРАНА ГОНГУРИ
От издательства
Меняются и умирают государства, умирает мораль, исчезают без следа религии, ископаемыми чудовищами кажутся древние системы права, но искусство остается. Настанет время, когда будут сданы в музей все нормы этики, сковывающие людские стада, коммуны и государства, но красота не перестанет заполнять сознания.
Творец, поэт и художник, воплощающий «бесконечное в конечном», отражает лишь великую потребность народов и общественных классов запечатлеть свои бури, радости и страдания в нетленных формах. И так велико это стремление, что искусство возникает даже в самой гибельной для него среде. Песнь рождается среди звериного рева битвы, эскимос и кафр, после утомительной охоты, одинаково стараются воплотить в камне или дереве свое представление о великом Умкулумк улу.
Искусство никогда не было независимым, свободным и потому высший его расцвет еще впереди. Оно гибло в лицемерном «свете» царского Петербурга, на чердаках Парижа, в тумане Лондона, в торгашестве Америки. Вспомните Пушкина, Берлиоза, Эдгара По, десятки других! Но и теперь, когда нет прежних цепей, мы сдавлены другим чудовищем — материальной нуждой.
И все-таки искусство должно существовать и передаваться другим. Мы отдаем художественному творчеству немногие ночные часы, так как прежде чем украшать дворец нового Мира, надо его построить, но мы должны быть готовы к тому периоду, когда это украшение станет главной задачей жизни.
В наше время столкновения двух миров, отчаянной войны за коммунизм против капиталистического произвола, когда все внимание поглощается этой гигантской битвой, особенное внимание мы должны отдать тому роману, где автор сквозь дым повседневности различает видения грядущего строя. «Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров», — говорит тов. Ленин, учитывая роль страстной мечты о «Стране Грез» в борьбе передового авангарда пролетариата с могущественной буржуазией всего мира. Чтобы бестрепетно умирать во имя светозарного идеала, надо не только ненавидеть прошлое, но и представлять себе ясно конечную цель. Такое представление может дать только искусство.
«Страна Гонгури» написана еще в 1917 году! Осенью 1917 года эта фантастическая повесть т. Итина была одобрена и принята М. Горьким для журнала «Летопись» под другим названием «Открытие Риэля», но не была напечатана ввиду закрытия журнала. Впоследствии автор вновь значительно поработал над ней. Издавая в настоящее время эту небольшую книжку, Государственное издательство надеется, что ее высокие переживания дадут читателю радостный отдых и новый импульс энергии на тяжелом пути в Страну Будущего.
Канск-Енисейский. Январь, 1922 год.
I.
Тюрьма была переполнена. В одиночки запирали по нескольку человек. В самой тесной клетке третьего этажа, где в коридорах все время дежурил военный караул, жили двое. Один был молод, другой казался стариком, но путь, отделявший юношу от смерти, был гораздо короче. Он был пойман с оружием в руках. Его дни были сочтены. Старик, когда-то известный врач, тоже обвинялся в большевизме, но в то время играли в законность и демократию, необходимо было разыскать какое-нибудь преступление, чтобы его повесить; поэтому в его прошлом упорно рылась следственная комиссия.
Молодой человек стоял на нарах и, прижав лицо к решетке, смотрел в лунный сумрак летней ночи. Низкие хвойные горы чернели на горизонте. Под ними стремилась огромная река, сиявшая серебряной чешуей. В последние ночи воображение пленника было особенно ярко. Он верил в теории, по которым человек, когда умирал, был мертв, но громадный оптимизм его молодости не допускал смерти. Расстрел представлялся ему звуковым взрывом, виселица — радужными кругами в глазах. Остальное было также нереально, как тюрьма, поглощенная его воспоминаниями и грезами.
Лунное отражение раздвинуло горы до горизонта. Пред ним беззвучно вздымались ровные волны теплого океана, покачивая огромную лодку. Он лежал на корме, разбитый дневной работой, но ему было хорошо от выпитого вина. Рядом двое китайцев, таких же носильщиков, как и он, ссорились из-за украденной рыбы. Он смотрел то на живой путь луны в океане, то на отражения разноцветных огней гавани, отелей и кабаков. Он мечтал, убаюканный ритмом волн и вздохами нежного бриза, которым никогда нельзя было надышаться. Зловонный чудовищный город исчез. Банановые рощи выросли на берегу. Чудесная набережная охватила бухту и, как сон, по ее извивам вознеслись невиданные здания. Он так углубился в свои видения, что незаметно, едва слышно, проговорил, наполняя камеру певучим размером:
— Страна, где все другое,
Страна моей Гонгури .
Врач, читавший полулежа у восковой свечки какую-то рукопись, внезапно приподнялся.
— Страна Гонгури, — сказал он. — Я только что прочел это название в твоей тетрадке, Гелий . Здесь больше мистики, чем географии.
— Страна Гонгури, — повторил Гелий, стараясь очнуться.
Он замолчал снова.
Врач взял рукопись, перевернул страницу и стал медленно читать стихи Гелия, иногда задумываясь на минуту в конце строфы.
-- В снегах певучих жестокой столицы
Всегда один блуждал я без цели
С душой перелетной пойманной птицы,
Когда другие на юг улетели.
И мир был жесток, как жестокий холод.
И вились дымы-драконы в лазури.
И скалил зубы безжалостный голод.
А я вспоминал о Стране Гонгури.
И все казалось, что фата-моргана ¹
Все эти зданья и арки пред мною,
Что все, как «дым пред лицом урагана»,
Исчезнет внезапно, ставши мечтою.
Здесь не было снов, но тайн было много
И в безднах духа та нега светила —
Любовь бессмертная мира иного,
Что движет солнце и все светила.
— Это написано очень давно, — сказал Гелий, — еще когда я был студентом в Петербурге.
--- Тем более, — сказал врач, — почему ты никогда не говорил мне о Гонгури?
Тень Гелия задвигалась на переплетах решетки и тотчас же вслед ей грохнул тяжелый выстрел. Рикошет пули наполнил одиночку резким злым воем и мгновенно затих, щелкнув в углу.
— Упражняются, сволочи!
Гелий спрыгнул с нар и подошел к свету.
— Как бы вырваться отсюда! — невольно пробормотал он, сжав кулаки.
Его лицо трепетало.
Ему было 24 года. На вид ему было больше. Его бронзовое лицо с признаками непоправимого.истощения покрылось тем туманно-матовым налетом, какой может дать только тюрьма. Левый висок был рассечен, на руке не хватало двух пальцев и неизвестно сколько шрамов скрывала одежда, но жизнь и сила бились в нем, как дикий зверь в капкане. Врач прижимал руку к груди. Гелий заметил это и вдруг ласково улыбнулся.
— Что, испугался, старина? — спросил он, касаясь плеча друга.
— Я просил тебя, — сказал тот, немного задыхаясь, — не подходить к окну. Вчера поставили казачий караул.
— Что ж, доктор, неожиданность — лучше, — ответил Гелий. — У меня нет иллюзий. Это ты говоришь: «Они не посмеют», но они только выжидают момент и все представители всех культурных народов мира при всех белых армиях будут молчать, как всегда. Когда я не мечтаю, у меня нет иллюзий. Я пережил тысячи приключений, не меньше тебя, старина, но теперь у меня предчувствие, что. Впрочем. — Гелий быстро вскинул голову: — ты хотел спросить меня о чем-то? Гонгури. Да, сейчас, пожалуй, .действительно пора заняться самыми индивидуальными переживаниями.
Гелий замолчал. Старик, потрясенный и ослабевший, молчал тоже. Потом Гелий продолжал, стараясь заставить его забыть случившееся.
— Я никому не говорил об этом. Ты знаешь, я не люблю членов партии. Я знаю, что они необходимы в эпоху борьбы и армий и что они хорошие боевые товарищи, но я не люблю их. Тебя, как друга, я узнал недавно. В сущности говоря, тут не о чем рассказывать. Сначала это пришло во время далекого детства, когда я лежал с книжкой под головой в зеленой тени и стрекозы пели в небесной сини. Потом всего яснее это повторилось на берегу Индийского океана, незадолго перед тем, как мы встретились. Иногда я курил опиум, стараясь убить время, и каждый раз мне снилось, что так называемый действительный мир становится неясным мелькающим вихрем частиц, исчезая в безмерных пространствах, пока вдруг не наступал момент, когда бессмертный дух забывает тело. И тогда, сперва словно отвлеченная гипотеза, а потом как незыблемая истина являлся мне бледный намек о Стране Гонгури. Но не только в кабаках, — в дни, когда я бывал совсем трезв и голоден и дремал от усталости, во мне возникала уверенность, что я вдруг переходил в совсем другой мир, я жил там и действовал, но когда просыпался, помнил все очень смутно. Однажды, еще на севере, я испытал глубокий экстаз, стоивший мне большой потери сил, и после того я запомнил имя женщины. Ее звали Гонгури. На океане это повторялось чаще. Словом, Страна Гонгури — навязчивые сны с необыкновенным тоном реальности. Вот и все. Все это, конечно, имеет свои научные объяснения, доктор. Дайте прикурить.
— Да, можно всему найти научные объяснения, — подтвердил врач. Затем, после долгой тишины, нарушаемой бредом тюремных окриков, пока Гелий курил, нервно глотая дым, он очень тихо и очень сосредоточенно произнес: «Гелий, хочешь вернуться в Страну Гонгури?»
Гелий встал. Он сначала удивился, потом нахмурился.
— Злая шутка, — пробормотал он. — Мечтать и откровенничать — слабость, но.
Раздался новый выстрел, потом длинный страшный крик.
— На этот раз прямо в цель,— сказал Гелий. — Говорят, они получают по сто рублей за каждую удачу.
Вдруг он вскрикнул и бросился к окну.
— Гелий, Гелий! — закричал врач, ловя его руку, — я совсем не шутил, я говорил серьезно. Сядь!
— Во имя того, что у нас нет бога, доктор, дай мне покончить со всем этим, — я не могу больше! — ответил юноша.
— Что ты хочешь сделать?
Рука Гелия ослабела, он вернулся и сел на нары, прислушиваясь к внезапной тишине.
— Ты говорил, — продолжал врач, пытаясь заинтересовать его прежней темой, — что ты жил в Стране Гонгури. Что было, то есть. Что такое время? Нелепость. Почему бы нам не восторжествовать над нелепостью?
— Ну, ты изобрел «Машину Времени», — усмехнулся Гелий, привычным усилием воли подавив пережитое волнение.
— Да, — ответил врач, ободренный его вниманием. — Только не думай, что я сошел с ума. Торжество над временем вовсе не утопия и я докажу это. Мы постоянно нарушаем его законы во сне. Наука зарегистрировала множество случаев, когда самые сложные сновидения протекали параллельно с ничтожным смещением часовой стрелки. Я сам испытал нечто подобное во время опытов с одурманивающими ядами и теперь не сомневаюсь даже в семилетнем сне Магомета ², восхищенного Аллахом до семи небес, начавшимся, когда опрокинулся кувшин с водою и кончившимся, когда вода еще не успела вытечь из него. Однако обыкновенный сон не годится для наших целей. Он слишком нестроен; его режиссер вечно путает сцены. Гипнотический сон всего более подходит для нас.
— Гипнотический сон? — повторил Гелий.Он действительно заинтересовался.
— Да. Впрочем, не следует уподоблять гипнотизм сну. В некоторых стадиях гипноза самое тусклое сознание может расцвесть волшебным цветком. Один мой пациент производил впечатление гения своими экстатическими импровизациями, хотя в обыкновенной жизни это был бездарнейший писака.
— Может быть, он повторял чужие стихи, — заметил Гелий с еще неисчезнувшей иронией.
— Все равно, — ответил врач, — наяву я не слышал от него ничего подобного. Он обладал нечеловеческой памятью. Он мог воспроизвести все ничтожные факты своей жизни, все мимолетные происшествия, мог стать совершенным ребенком и чем-то еще ниже, до страшного сходства всех особенностей психики, до возвращения первобытных темных инстинктов. Другой, совсем калека, профессор, высохший, как Момзен ³, погружался в другую индивидуальность, чуждую его нормальному Я. Он был великим воином, настоящим Ганнибалом, сыном Гамилькара! ⁴Он вел свои войска через Альпы, ледяной ветер жег его загорелое лицо, его боевые слоны гибли от холода, но его несломимая воля все сильнее пламенела от испытаний и его глаза сияли, как пожары двух городов. Он спускался в Италийские долины под ржание коней нумидийцев ⁵ и мерный стон мечей, бьющихся о щиты. Так он рассказывал, клянусь болотом!
— Сны. лучше жизни, — проговорил Гелий, как бы задавая тему элегантного спора.
— Это более чем сны! — возразил врач, пристально глядя в его глаза. Затем, помолчав несколько секунд, он продолжал, все более увлекаясь.
— Когда говорят о гипнотизме, имеют обыкновение утверждать, что это воля гипнотизера вызывает в спящем все невероятные процессы транса и т. п. Конечно, воля здесь ни при чем. Я говорю спящему, что его тело бескровно и кровь перестает литься из его ран; я говорю, что его мышцы окаменели и слабый человек лежит на двух подпорках, касающихся его затылка и ступней, выдерживая неслыханный груз. Это всем известно. Гипнотизер не может подчинить чужой души, он лишь вызывает в ней какие-то неисследованные силы и она более или менее раскрывает их, не переставая быть загадкой, увлекая в свою таинственную бездну.
Он говорил еще довольно долго о той поэтической области, где Наука соприкасается с Неведомым. Гелий слушал, полузакрыв глаза, курил и явно наслаждался необычайностью положения по своей неисправимой привычке авантюриста и поэта. Наконец он прервал говорившего.
— Хорошо, доктор! Итак, ты хочешь усыпить меня и сделать только одно внушение: чтобы я вернулся в Страну Гонгури? Хорошо, я готов на какие угодно опыты! Я только думаю, что меня трудно загипнотизировать. Впрочем, когда я засну, ты можешь попытаться. Это, кажется, практикуется? Кстати, сегодня я спал не более пяти часов.
Врач кивнул головой, и так как проект был принят, предложил поужинать хлебом. Еда заставила их на время забыть о своих замечательных планах. Хлеба было мало: голод никогда не расстается с тюрьмой.
Внезапно коридор наполнился гиком и хохотом. Пьяная компания мчалась мимо. Нелепо взвизгнула частушка. Кто-то тяжелый остановился у камеры и в круглой дырке двери забегал мутный глаз.
— Не спишь, гада, — заорал голос, — завтра тебе крышка!
— Завтра, — прошептал Гелий, когда шум исчез на каменной лестнице.
— Гелий!
Он взглянул на побледневшее лицо, где воля не в силах была скрыть сердцебиения, и вдруг заговорил с пламенной твердостью.
— Несмотря на это, друг, жизнь или душа, не знаю как сказать лучше, бесконечно прекрасна! Что, в самом деле, дремлет в нас? И, как прекрасно, — ведь нет силы, способной изменить то, что для меня есть самый центр Я! Четыре года я знаю тебя, четыре года ты вечно возился с научными опытами и теперь здесь, лицом к лицу с палачами, ты остался все тем же изобретателем экспериментов, каким был. Да, можно забросить нас в хаос и зловоние китайских кварталов, можно нанять весь день грузить уголь, можно тело и сознание сделать черными, как он, от грязи и зноя, можно убить, но нельзя, невозможно заставить Гелия перестать быть Гелием. Если бы наши тюремщики могли почувствовать это, они сами повесились бы от своего ничтожества. Поэтому у меня нет других мыслей, кроме навеянных нашим разговором, Митч. ничего больше.
Он подошел к своей койке, сбросил сапоги, потом помедлил и закурил.
— Задуй лучше свечку, не будут заглядывать, — заметил он.
Врач погасил огонь. Лунный свет нарисовал на стене гигантскую решетку. Гелий отвернулся, закрываясь своей английской шинелью, снятой когда-то после боя, с мертвого врага.
— Итак, мы отправляемся в Страну Гонгури, — сказал он.
— Спокойной ночи, — ответил врач.
Скоро он услышал безмятежное дыханье спящего, привыкшего мгновенно засыпать в короткое время отдыха в грязи пристаней и вокзалов, в открытом море в бурю, в заставе перед тем, как идти в снега величайших равнин и стоять часами на грани двух борющихся миров и смерти.
Голубой свет падал на спокойное лицо Гелия. Врач смотрел на это лицо и мысли его кружились. Его лихорадило. Он бормотал бессвязно.
--- Электроны света, мысль в его мозгу. Мир. Мозг. Непонятно.
Он с усилием встал, очнувшись, и осторожно взял руку Гелия.
— Ты спишь, — сказал он, — спи! Волны мрака укачивают, как море. — Он приступил к своим внушениям.
Наконец, грудь Гелия расширилась от сильного вздоха и черты лица оживились. Он бредил и жестикулировал. Потом его лицо внезапно побледнело и стало неподвижным, словно невидимая рука сдернула с него маску. Врач был очень удивлен.
--- В сущности, все гипнотические состояния индивидуальны, --- пробормотал он, прижимая пульс спящего, показавший резкое понижение жизнедеятельности.
Он молча созерцал нечеловечески спокойное лицо, освещенное слабым голубоватым светом. Такими обыкновенно изображают существа высочайшего типа. Он вспомнил, как то же выражение поразило его, когда он в первый раз встретил Гелия.
Врач эмигрировал сразу после 1905 года. Их было много — русских беглецов, уехавших искать свободу за Атлантик. Большинство из них очень скоро испытали эту свободу. Она превратила их в бродяг, в случайных рабочих физического труда, разбросала по всему свету. «Повезло» очень немногим, ему в том числе, благодаря его интернациональной профессии и подготовке. Он спокойно практиковал в Сан-Франциско, постепенно терял прежние знакомства, старел и не думал больше о борьбе. Его стали звать «М-р Митчель» и под этим именем он был известен даже русским эмигрантам, которым он помогал. Так продолжалось, пока не явился Гелий.
Он был художник по натуре, а его отец — токарь, в далекой провинции. В России этого достаточно, чтобы стать революционером. Затем пошло, как по нотам. Совсем молодым студентом Гелий был сослан в Сибирь. Беспокойный и жизнерадостный, он не долго выдержал ее огромное однообразие и, зная немного английский язык, сбежал в шумный Китай. Здесь началась его новая жизнь моряка и чернорабочего.
Он жил на пароходах и в доках, объехал все берега южных морей и его душа пропиталась их синей солью, густым ветром и золотым зноем. Иногда ему удавалось найти более легкую работу монтера или маляра, но скоро он сам возвращался к морю. Впечатления подавляли его и требовали воплощения. Он писал стихи в маленькой тетрадке, которую носил во внутреннем кармане своих единственных брюк. Этого было слишком мало, и, так как вокруг не было никого, кроме людей, занятых каторжным трудом, его творчество расцветало в грезах.
Однажды, после удачного заработка, во Фриско, Гелий наслаждался безделием и хорошим табаком в дешевой харчевне для матросов. Он мечтал. Он творил свои поэмы, не находившие другого сбыта, кроме его собственного воображения. Это было вдохновение. Он видел Страну Гонгури.
Опасная болезнь пациента привела «мистера Митчеля» в эти кварталы. Он зашел отдохнуть после работы в первую открытую дверь. Воздух внутри был похож на туман в бане; грязные сильные люди всех рас пили, кричали и бранились. И в центре всего этого он сразу заметил напряженное от потока мысли лицо, красивое и странное, с легкой улыбкой тайной радости! На первый взгляд оно принадлежало обыкновенному чернорабочему, допивавшему свое пиво за дальним столиком. Врач сел рядом. Молодой человек не двигался.
— Удивительно, — пробормотал наконец врач по-русски.
Юноша вздрогнул и, очнувшись, уставился на своего соседа.
— Вы. Вы. — начал он.
— Русский!
Через секунду они трясли друг другу руки.
Гелий настолько был восхищен встречей с человеком, который отчасти мог понять его, что они проговорили, пока к ним не подошел китайчонок, заявивший, что заведение закрывается. Эту ночь Гелий спал в квартире врача, но ему не спалось: постель была слишком мягкой, — «как женщина», говорил он.
С тех пор они не расставались. Врач скоро увидел беспомощность Гелия, вернее, презрение к помощи и его талантливость. Без особого труда он устроил его в одно русское издательство. Они вели деятельную жизнь. Война в Европе заставила их снова занять старые боевые позиции. Потом пришел бессмертный семнадцатый год, — февраль и октябрь. Газеты заполняли страницы событиями в России, ее ужасами и безумством, сквозь красный дым которых виднелся бледный, смертельный страх гибнувшей цивилизации, почуявшей победную поступь Нового Мира. «Чтобы строить, — надо разрушать», — ликовал Гелий, и однажды сказал твердо и безоговорочно: «Надо ехать!» Врач не хотел этого. Он хотел покоя; он был стар; но все-таки, в решительный момент согласился.
Они поступили переводчиками к группе секретарей YMCA ⁶, отправлявшихся в своей новенькой форме американских офицеров в северную Азию. Они ехали проповедовать идеи креста и красного треугольника с помощью какао, сигареток и молитвенников. В сущности, это были славные ребята, — обыкновенные путешественники от нечего делать, воспользовавшиеся богатым христианским союзом для своих целей. Все их христианство сводилось, по традиции, к совместным молитвам по воскресеньям, во время которых они зевали, рассказывали анекдоты и курили манильские сигары. Когда янки были достаточно близко от границ, занятых войсками Республики Советов, переводчики покинули их без предупреждения.
Они торопились, но огненная завеса уже разделяла Сибирь от России. Тогда Гелий первый бросился в хаос первоначальной власти. Случайность, полтора года юридического факультета, сделали его членом революционного трибунала. Очень скоро стало безнадежно ясно, что борьба в Сибири против экспедиционных войск всего света и предателей всех сортов, немыслима. Коммунистические отряды были разбиты и уходили в тайгу. С одним из них ушел Гелий. Врач плыл по течению.
Ему врезались в память эти дни. Полгода отряд метался по чудовищным лесам и деревням. Зимой, в морозы, пред которыми градусы Фаренгейта ⁷ из сказок Лондона ⁸ — детская шутка, они ночевали у огромных костров под хвоей невероятных сосен. Иногда они вырывались в не менее чудовищные степи и крутящиеся саваны бурана, каждый день хоронили десятки людей. Было чудом, каким образом он, старый, изнеженный интеллигент, мог перенести все это. Он жил под шкурой медведя в своей санитарной повозке и бестрепетно ждал конца; но беспокойство мучило его, когда он вспоминал ремень винтовки, прилипший к плечу Гелия, как у всех рядовых бойцов. Наконец, в декабре, их окружили. Большинство было убито, часть погибла от пыток и несколько человек, по обычаю бандитских войн, были доставлены живьем. Потом тюрьма, мучительное следствие, смертный приговор для Гелия.
— О, что это было!
Врач вздрогнул. Он зажег спичку, чтобы закурить. Резкий свет упал на веки Гелия, он вздохнул несколько раз чуть заметно глубже, но не проснулся. Врач быстро погасил пламя.
— Что за удивительное несчастье, — пробормотал он.
Единственной его надеждой была миссия Соединенных Штатов, приехавшая в город. Он слышал фамилию Д. Мередит, — не тот ли Мередит, которого он лечил? Кроме того, говорили, что американцы, помогая излюбленному порядку паровозами и теплым бельем, бывали также в тюрьмах перед большими расстрелами, стыдясь финансируемого ими варварства, и, кажется, спасли кого-то.
— Они не посмеют убить поэта, — думал он. Вдруг ему показалось, что лицо Гелия стало еще поразительнее. Он взял руку спящего и с тех пор все время старался следить за его пульсом. Неожиданно отдаленная музыка наполнила камеру. Это был фонограф в квартире начальника тюрьмы. Кристаллический голос пел «Аvе Маriа».
Как интересна жизнь и как скучна! — думал врач, глядя в гипнотизирующую одухотворенность лица Гелия. — Люди давно стали бы богами, если бы в них однажды вспыхнул огонь, пламенеющий в этом юноше. Ах, если бы хоть сон им приснился необыкновенный!
В его памяти звучали отрывки поэзии Гелия, самые мистические и пламенные, и он бормотал их вслух, не владея собой.
—.«И все-таки я умираю в грезах,
И непонятный сон меня томит,
И мысль, как демон в сказочных наркозах,
В провалы неба без конца летит.
В тюрьме рожденный царственный орел,
Не зная воли, все ж к лучам стремится, —
Так дух предвидит некий ореол
И жаждет навсегда освободиться.»
— Гелий! кто он? гений или .каждый раз, когда я думал, что разгадал его, какой-нибудь поступок, фраза внезапно снова открывали мне алмазную стену его глаз. И мне всегда становилось немного страшно, когда я долго погружал мысль в его сознанье. Точно огромный полет. Ах, разве есть понявший душу?!
— Разве есть понявший душу? — повторял он время от времени, сам почти загипнотизированный мудрым спокойствием сна.
Вдруг он очнулся.
— Пульс!
Сердцебиение спящего замедлялось с такой угрожающей правильностью, что врач немедленно принялся будить Гелия. Неожиданно это оказалось очень трудным. Хорошо, что было немного водки. Гелий проснулся, т.е. открыл глаза; но он совершенно не отвечал на вопросы и смотрел с таким сумасшедшим удивлением, что врач невольно отступил в страхе, принявшись рассказывать, громко повторяя фразы, все происшедшее. Прием действительно подействовал. Скоро Гелий стал более внимателен к окружающему и нахмурился от воспоминаний. Врач зажег свечу и велел Гелию закурить. Привычные ощущения лучше всего повлияли на него. Он нерешительно встал и направился к обломку зеркала.
— Я не изменился? — сказал он.
— Нет, совсем мало.
— Я очень много пережил за это время.
— Ну, как ты себя чувствуешь? — робко спросил врач, но Гелий только покачал головой.
Он сел на койку, опуская лицо в ладони.
— Что это было, что это было!
— Что, Гелий?
Настала тишина. Врач молча ждал исхода неведомых потрясений его друга. Что это могло быть? Далеко в городе ударил колокол. Гелий неожиданно выпрямился.
— Сколько времени? — быстро спросил он.
— Час.
— Час? Скоро рассвет!
Он глубоко вздохнул и с гигантским усилием воли продолжал очень спокойно, как будто говорили о деле.
— Последний рассвет. Поздно. Да, кто-нибудь должен знать! Садись, Митч, слушай, что это было. Я закрою глаза, чтобы лучше видеть. Слушай!
II.
— Сначала я спал, потом случилось нечто, чего нельзя забыть: моя жизнь в стройном порядке переживаний стремительно потекла назад к своему первоисточнику. Друг за другом возникали передо мной все более и более ранние картины моего пребывания здесь, словно тени фильмы, разорванной и соединенной так, что последние сцены стали первыми и первые — последними. Промелькнули школьные годы, началось детство. Я читал давно забытые книги, уносившие меня на воды Амазонки и Ориноко, на таинственные острова и далекие планеты. Я помню себя совсем крошечным ребенком, влюбленным в нянины сказки, безумная фантазия которых так торжественно звучала в темной детской при свете зимних звезд; я внимал им и забывал себя. Потом я подошел к огромному дереву, несомненно из учебника Ветхого завета, и беседовал с Авраамом, и тогда, подобно смутному сну, во мне родилось воспоминание об этой жизни, хотя перед собой я видел только степь, но Авраам дал мне жемчужину величиной с голубиное яйцо и я улыбнулся, уверившись, что вспоминаю лишь грезы дневного сна. Я стал смотреть на тусклый свет дивного жемчуга и мое сознание постепенно погружалось в него, пока не наступил хаос.
Не знаю, как долго длилось беспамятство.
Гелий замолчал, сжимая ладонью веки. Он не в силах был справиться с цепью образов, окружавших его. Бешеная воля билась с их расстроенными полчищами, стремясь вернуть им порядок и красоту мысли. Сознание, что все эти невероятные грезы замкнуты в клетке его мозга, было чудовищно. Гелий трепетал. Наконец, он открыл глаза и продолжал с крайним напряжением.
— Я, Риэль, так меня звали раньше, я, Гелий, видел сегодня мир с непредставимой высоты. Я хочу тебе рассказать об этом. Я был Гелием и стал Риэлем. вернее, наоборот. Но это лишь теперь я помню последовательность видений, тогда же было совсем иное. Я стал вполне человеком другого мира, с другим прошлым, вне каких бы то ни было воспоминаний о жизни Гелия. Видимость реального ничем не отличалась от обычного состояния вещей. Мне было, приблизительно, 24 года, как теперь. Разумеется, это не значит, что моя жизнь длилась в течение 24 оборотов Земли вокруг Солнца — земные меры вообще неприложимы к Миру, где я назывался Риэль, но я все же буду употреблять их, потому что в данном случае кажущееся для нас важнее действительных соотношений. Впрочем, должен сказать, в моих воспоминаниях есть огромные пробелы: у меня сохранились, главным образом, зрительные впечатления и весь смысл этих впечатлений и смысл всех фраз и речей, так что я буду передавать их, как, если бы я помнил их дословно и как я привык писать и говорить вообще, но я совершенно забыл язык, на каком я говорил, — осталось только несколько собственных имен и больше ничего. Но это незначительная потеря, — я забыл великие знания, которые могли бы изменить все, но они исчезли, исчезли.
Гелий опять остановился, собирая образы. Врач пытался удобнее расположиться на покрытых овчиной досках.
— Итак, — снова заговорил Гелий, после задумчивой паузы, — я вернулся в Страну Гонгури 24-летним юношей и пробыл там не более 24-х часов. Таким образом, невозможно передать мои впечатления в порядке их последовательности, как невозможно путешественнику, вернувшемуся из неведомой страны передать свои приключения с последнего дня. Поэтому я расскажу вкратце о моей великой родине и моем прошлом, насколько это необходимо для понимания дальнейшего; остальное ты легко дополнишь своим воображением.
Был 1920 год после Революции. Я вспоминаю жизнь, в общих чертах удивительно сходную с жизнью на Земле, но достигшую иной, высшей степени развития. Я видел породы животных и растений, подобные земным: — бананы, хлебное дерево, персики, розы. — но они имели странные размеры, приносили гипертрофированные плоды, вообще были поразительно изменены многовековой культурой. Только люди более всего походили на лучшие племена Земли; впрочем, я помню себя выше и прекраснее их, потому что у нас был теплый, неизменный климат и не было забот. Машины были совершенны, души людей еще более. От права власти — этого подобия кнута и других воспитательных атрибутов, от разных кровожадных чудовищ древности, почти ничего не осталось. Дети еще играли в государства и войны, но на самом деле преступление стало невозможным, как. ну, как съесть горсть пауков. Исключения подлежали ведению врачей.
Это схема жизни. И вместе с тем — это мечты. Ведь говорить о моей стране, значит мечтать. И там, в тех дворцах, полных кристаллического света, тоже пылали терновые розы трагедий духа. Их огонь убил меня, но, когда я вспоминаю о нем, я готов каждый день умирать в Стране Гонгури, чем жить здесь.
Гелий задумался чуть-чуть, взглянул в глубину ночи, как бы отыскивая слова для нереальных предметов, и продолжал более спокойно.
— Современное мне величие стало не только грезой со времени Онтэ, гениального генэрийца, за пятьсот лет до моей эры открывшего способ уничтожать зависимость от притяжения мировых тел. Тяжесть, наше проклятье, превратилось в чудесную силу. Огромные массы поднимались вверх и брошенные обратно, давили на гигантские рычаги, двигавшие бесконечные системы машин. — Мир — энергия, — она безгранична. Мы здесь, жалкие карлики, страдаем извечно от ее недостатка, но она всюду. И как мало, как мало нужно, чтобы покорить ее организующей силе духа, чтобы стать великим и свободным: только немного разума, немного коллективного разума!.
С тех пор, как Онтэ впервые подчинил воле человека всемирный поток тяготения, волшебная легкость стала основой нашего мира. Можно было изменять очертания материков, переносить и уничтожать горы. Еще Онтэ начал разработку плана всей Страны Гонгури. Это был очаровательный сад с преобладающими породами в разных климатах. На карту были нанесены пояса: какао, кофе, пшеница, мед и т. д. Города представляли собой группы зданий, возвышавшихся из разноцветного ковра деревьев. Вернее, каждое здание было городом, населенным несколькими десятками тысяч людей, законченным в своей внутренней жизни и соединенным токами со всем миром. Один раз я видел постройку нового города — настоящий праздник творчества и великолепия! Город возник с изумительной быстротой, но потом, когда завершилась мысль инженеров, заснула энергия машин, на смену пришли художники, томимые своей вечной неудовлетворенностью. Ах, какое чудесное спокойствие овладевает мной при этих простых воспоминаниях! Словно полет ранним утром.
Мое время было эрой великих событий. Шестьдесят лет перед этим молодой ученый Везилет практически решил проблему полета в межпланетном пространстве. С ним было еще шесть человек и две женщины. Они отправились на планетку Санон, ближайшую к нам из внешних планет нашей системы. Шестьдесят лет о них не было никаких вестей и большинство было уверено в гибели Везилета, унесшего с собой тайну своего изобретения. Но вот, я был тогда школьником, в стране Талла, радио Лоэ-Лэле столицы Генэри, загремело тысячами рупоров и экранов, что Везилет вернулся.
— Что это за названия, Гелий? — тихо перебил его врач. — Ты не говорил. — Он внимательно слушал его бред, по временам делая короткие заметки в записной книжке.
Гелий кивнул головой.
— Да, Митч, это очень странно. В Стране Гонгури было два народа: Талла, населявший восточные материки, и Генэри. Я не ручаюсь за эти названия. Здесь не было, конечно, различия по национальностям, нет, такого свинства у нас уже не существовало. Здесь были разные цели, или идеалы, что-то в этом роде.
Я родился в стране Талла. Громадный, сильный народ. Это был ряд коммун, спокойных, счастливых, если счастье есть сознание совершенной удовлетворенности или возможности ее. Там не было ничего лишнего. Точная мысль определяла производство. Коллективное творчество преобладало. Даже художники очень часто вместо подписи ставили знаки своих школ. Памятники воздвигались не людям, а событиям: «Победа над тяжестью», «Перевоплощение веществ» и т. п. Совсем другое — Генэри!
Первые впечатления, сохранившиеся в моей памяти, были впечатления полета, когда я впервые учился управлять миниатюрным аппаратом, состоявшим из пояса, уничтожавшего тяготение, и двигателя. Какое удивительное ощущение бесплотности, словно от наркоза, я испытывал поднимаясь все выше и выше вместе с другими крошечными существами! И всегда я стремился лететь скорее других, парить над другими, всегда был один, полный странного беспокойства. С детства я внимательно прислушивался к рассказам о генэрийцах, которых сдержанно не одобряли: их было в двадцать раз меньше, чем нас; у них был институт Ороэ и разные чудовищные вещи, даже то, что мы называли «деньги».
Мне было шестнадцать лет, когда вернулся Везилет. Ах, Митч, ты понимаешь, — у нас не было убийств, войн, дипломатических интриг, судебных процессов, — всей этой бедности и грязи, прямо пропорциональной безумию; что же удивительного, если мои страсти пламенели от громких имен и чистого героизма! По правилам нашей школы я уже мог жить в любом городе планеты. Я слышал, что Везилет снова подготовлял экспедицию на Санон. Мне было необходимо переговорить с ним. Я был так молод, что не верил в неудачу, в отказ.
Я улетел в безграничные просторы западного океана и мне так понравился совсем особенный воздух над его ширью, что я провел там весь день, радуясь прохладе прозрачных волн. Потом во мне с прежней силой возникла моя смутная жажда и я помчался к материку Генэри, когда западный горизонт приближался к солнцу. Раньше я не бывал в Лоэ-Лэле, вообще в Генэри. Конечно, я знал о них все, что говорилось в школе и книгах и тысячи раз видел на экране, но все же я был подавлен новью. Впервые я увидел лица, искаженные теми страшными пороками, от которых нас предостерегали, как от ада, и лица, сиявшие невероятной красотой Гонгури. Я был захвачен и унесен чем-то высшим меня, в этой возбужденной чуждой толпе.
Лоэ-Лэле раскинулась на берегу залива теплых вод, на небольшом полуострове, прямым углом вдавшимся в море. Как раз в точке пересечения набережных, на огромном камне, стояла удивительная статуя легендарного юноши — бога. Его лицо было обращено к югу и его тело, отлитое из темного металла, казалось обожженным солнцем. Запрокинутая голова отклоняла корпус и левая рука защищала взор от невыносимого сияния, а правая была простерта над землей, как бы ища опоры; но все же его грудь расширял огненный восторг и нога твердо выдвигалась вперед к югу, к солнцу, туда, навстречу высшему влечению, нездешнему свету. Казалось, он отражал в себе невидимую душу гиганта города, — страсть непреложную, недосягаемый дух.
Мне трудно говорить нашим грубым языком о красоте светозарной. Пусть каждый по-своему представляет совершенство. Кроме того, я проговорил бы до утра и до конца жизни, если бы стал изображать столицу Генэри. Я хочу рассказать совсем о другом, ужасном. Только два слова о Дворце Мечты. Нет, еще о садах! Земной рай бородатого Ягве был бездарной копией садов Лоэ-Лэле. Они окружали ее с трех сторон: с востока и севера, и на западе начинались почти от статуи на скале, простираясь по краю моря, отделенные от него широкой полосой пляжа. Гипертрофированные розовые кусты, странные декоративные растения, пальмы и бананы с листьями-гигантами, аллеи, вымощенные плитами темного топаза, удивительные фонтаны, каскады кристальной горной воды, открытые солнечные поляны, голубые, зеленые, красные, желтые, легкие невиданные постройки, обвитые вьющимися цветами, огромными, как луны, и всюду статуи (какие статуи!) генэрийских скульпторов. Я вспоминаю о всем этом, мой мозг едва выносит яркие феерические краски и, как общий фон, предо мной дрожит, словно дым фимиама, легкий влажный и теплый воздух, поднимающийся к небу. А вдали, сквозь листву и стволы виднеются великолепные гиганты Лоэ-Лэле, где как быстрые парусные ялики в проливах между скал, мелькают белые и бледно-голубые туники, в рамке бездонной синевы и сверкающих граней камней. Здесь, в тюрьме, невольно ярче сознаешь, Митч: «счастье в полете». Ах, как бы отсюда вырваться! Ведь так мало, так мало нужно для счастья, — полет!.
На площади, у статуи юноши-бога, толпились, наполняя воздух и землю, тысячи генэрийцев. Десять сверкающих машин стояли у его ног; я сразу узнал их, вздрогнув: это были «победители пространства» Везилета.
— Где Везилет? — спросил я.
Трое обернулись и кто-то ответил пренебрежительно. На земном языке ответ звучал приблизительно так:
— Здесь не до мальчишек!
Я удивился, взял его за руку и крикнул, чтобы заглушить шум.
— Я хочу видеть!
Генэриец обернулся снова, тоже удивился и вдруг засмеялся мне в лицо. От него запахло мутным и перегорелым. Он сказал:
— Война!
Это было чудовищно. Гораздо хуже, чем где-нибудь на Бродвее сказать: «Пойдем, поджарим на завтрак негра».
Я сильно дернул моего собеседника, чтобы тот очнулся. Вероятно, я заразился общим смятением. Сильный толчок отбросил меня в сторону. Несколько человек подлетели к нам.
— Что это, перепились?
Внезапно раздались победные клики, все сдвинулось, понеслось. Я взглянул: все десять машин поднялись и, равномерно ускоряя мощный полет, исчезли в небе. Я бросился вверх так высоко, что стал задыхаться. Мечты не сбылись — первый раз! -- и как нелепо!
Красный диск солнца коснулся горизонта. Пылали фосфорические тона океанийских закатов. Я летел к северу, прочь от Лоэ-Лэле. В школе о ней говорили правду. Кровь и золото струились на землю, но в душе было темно. Вдруг огненный луч промчал тьму. Внизу подо мной шумел от прибоя пустынный остров-скала и луч солнца отражался от полированного металла одиннадцатого аппарата, вдавленного в гальку берега. Я бросился туда, едва не разбился. — «Паон», прочел я блестящее название планеты, занимавшей по отношению к нам место Венеры системы Солнца.
Высокий старик смотрел на меня, улыбаясь.
— Кто вы? — спросил я. — Неужели вы отправляетесь на Паон?.
Вдруг я заметил, смутившись, не зная, как выразить мое безграничное уважение, черный жемчуг и Рубиновое Сердце — признак Ороэ.
Строй жизни Генэри в общих чертах совершенно такой же, как жизнь наших коммун, кое в чем отличался чрезвычайно. Идеи далекой Революции выковали эти страны из одного куска. Все необходимое производилось всеми и для всех. Механический прогресс давно уничтожил принудительный труд. Образование, материалы для творчества, пища, город, одежда были спаяны одним планом во всей Стране Гонгури, но остальное, что не было необходимо для жизни и развития народа, в коммунах Талла не производилось. В Генэри же на организме социальной спайки существовали диковинные наросты, производившие ненужные и явно вредные предметы, главным образом возбуждающие яды. Поэтому в Генэри, в этой не подчиненной контролю сфере, можно было встретить такие анахронизмы, как своеобразные денежные знаки, — алмазные диски с изображением фигуры Энергии. Их ценность была, конечно, условной, так как после открытия способа превращать друг в друга любые вещества, единственной мерой могла считаться только полезная энергия. Денежная единица равнялась определенному количеству радия ⁹, сущность которого, как известно, не вещество, а сила. Эти особенности влекли за собой особенности характера обоих народов. Кроме того, в Генэри сохранился какой-то призрак Центра. Гении Генэри составляли выборную ассоциацию, Ороэ, и в принципе были всемогущи. Каждая их мысль должна была осуществляться, хотя бы для этого потребовалось напряжение всех народных сил. Нечего говорить, конечно, что избранники Генэри не могли иметь низких и нелепых побуждений. Интересно отметить, что при выборе новых членов Ороэ предпочтение отдавалось молодежи. Признаться, тайком я часто мечтал о рубиновом сердце.
— Мое имя Везилет, — ответил улыбающийся старик.
— Так вы не улетели вместе с ними, там, в Лоэ-Лэле!
— А кто ты, милый мальчик? — спросил он.
— Я Риэль.
К нам подошли еще двое: гигант лет сорока с бронзовой кожей и черным атавистическим ¹⁰ пушком на подбородке и молодая женщина с такими ясными и одухотворенными глазами, что казалась совсем нездешней.
— Вот мои спутники, — сказал Везилет. — Марг и Нолла.
Я обрадовался, — я знал ее поэмы; она должна была понять меня. Я сказал, что я школьник, что в стране Талла скучно, что теперь все мои грезы в чудовищном мире Паона. Вероятно, это было очень трогательно. Нолла засмеялась и неожиданно сказала, обращаясь к Везилету:
— Может быть, мы возьмем его? Наступила неловкая минута.
— Да, после ваших слов ему трудно отказать, — сухо сказал Везилет.
— Он сам откажется, — с усмешкою ответил Марг, и грубо схватив меня, повел за собой.
Говорили, что генэрийцы слабы, а этот был огромен и силен, как зверь; я даже невольно боялся его. Он действительно казался выходцем из другого мира.
— Ты думаешь, — говорил он, — что в первобытных дебрях, где без числа всякой летающей и ползающей дряни, где через три луны лед сковывает воду, можно прыгать в одной твоей тонкой рубашонке? Смотри!
Он вынул шерстяное белье, кожаные сапоги, меховую куртку, шапку и насильно напялил на меня все эти принадлежности смелых пионеров. Я не мог шевельнуться, подавленный страшно неприятными ощущениями, словно кролик, положенный на спину и таким образом загипнотизированный необычайностью положения. Кругом меня был сплошной муравейник. Марг хохотал. Тогда, до последних пределов напрягая волю, я прошелся по металлическому полу и заговорил, улыбаясь:
— Великолепно! Я буду вам чрезвычайно полезен. Я силен и могу носить тяжести. Я могу также исполнять разные мелочи, которые будут отнимать у вас много времени. Кроме того, я хорошо знаю машины.
Марг стал серьезен. Он резко согнул мне руку в локте, пощупал мускулы, потом повернулся и крикнул Везилету:
--- Эти таллийцы крепкий народ; я возьму его.
В небе сиял огромный Паон — бог страсти. Мечты сбывались.
— Ты должен работать, — прибавил Марг, поворачиваясь ко мне. —Иначе, я тебя выброшу. Идем!
Я послушно и с увлечением стал ему помогать.
Скоро двойная металлическая дверь «Паона» закрылась и Везилет, погруженный в тайные думы, молча нажал какой-то рычаг. Мы испытали знакомое замирание сердца от слишком быстрого подъема. Было торжественно, как в храме. Марг ушел управлять кораблем. В той пустоте, куда мы поднимались, единственными врагами людей были метеориты, блуждающие обломки миров; но мы владели особыми приборами, отмечавшими их приближение, что давало возможность избежать убийственной встречи с этими своеобразными рифами межпланетных пространств. Нолла смотрела в нижнее окно. Везилет заперся в своей комнате и рассказывал что-то, почти шепотом, машинке, записывающей речь. Никто на меня не обращал внимания. Я последовал примеру Ноллы.
Предо мной расстилался громадный амфитеатр нашей планеты. Сотни раз с той же высоты я видел на экране очертания знакомых земель, и все же их чрезмерная реальность казалась фантастичной. Контуры материков поражали размерами, облака — вечной изменчивостью, краски — странными сверкающими тонами. Мое сердце переполнялось. Я надолго забылся в экстазе созерцания.
«Мир исчезал, но мы летели дальше.
И сердце не хотело возвращенья.»
как смутное эхо вспоминаются мне стихи Ноллы. Ах, она действительно не вернулась!
Впечатления этого путешествия повлияли на меня необычайно. Я впервые встал лицом к лицу с безграничным миром и научился противополагать себя ему. Я увидел, как бесконечно разнообразна жизнь и взял первые уроки борьбы за существование вдали от чудесных городов моей страны. Неведомых, неосознанных влияний было, конечно, еще больше. Поэтому, на несколько минут умчимся вместе на планету Паон.
На следующий день едва не случилось катастрофы. Томимый непривычным бездействием, я стал разбирать незнакомый прибор, прикрепленный к внешней стене «Паона». Вдруг загудел шторм, хлопнула дверь и сразу стало холодно. Я не растерялся и успел закрыть отверстие, но все же едва не задохнулся. Нолла застала меня с посиневшим лицом и со слезами стыда за мой некрасивый поступок. Она ограничилась одним взглядом и все происшествие осталось между нами; но я подумал, что, если бы вместо нее был Марг, он в самом деле выбросил бы меня с нечистотами. Грубость Марга я сначала отнес на счет Генэри. однако Нолла была совсем другой! Однажды я заговорил о нем.
--- Он был начальником войск, — ответила Нолла.
Это был такой вздор, что я потребовал подробных объяснений.
В однообразные часы, среди бесконечной пустыни Мира, далеко от ее оазисов, освещенные ослепительными лучами солнца, неизменно лившимися с одной стороны, тогда как в другие окна были видны лишенные своего ореола разноцветные звезды, мы вели нескончаемые разговоры, стараясь не двигаться, так как всякий легкий толчок перебрасывал наши потерявшие вес тела к противоположной стороне комнаты. Я полюбил то особенное сияние мысли, каким Нолла озарила жизнь. Я любип спорить с ней на тему о преимуществах моего великого народа. Как все слишком юные души, я был заражен еще чем-то, вроде слабого отголоска патриотизма диких времен. Впрочем, часто я спорил больше от желания слушать певучий голос Ноллы.
Глядя на тончайшую резьбу алмазных дисков, я говорил, повторяя школьные истины.
— Из-за вашей свободы, как бы она ни была прекрасна, генэрийцы гораздо чаще переселяются к нам, чем наоборот, а эмигранты из Талла — всегда самые беспокойные люди. Из-за этого и большей смертности вы сравнительно малочисленны. У вас бывают самоубийства, появляются новые странные болезни, жалкие «пророки» уходят с кучками поклонников в самые пустынные места планеты, художники, вместо того, чтобы украшать города, высекают статуи и строят храмы на вершинах гор.
Удивительнее всего была история Лонуола. С этим громким именем сплелись какие-то очаровательные тайны. Ученый и поэт, он был одним из величайших людей моего времени. В его реторте, впервые после неведомого дня возникновения жизни, зашевелилась протоплазма, созданная из мертвого вещества. «Настанет день , — говорил в стихах Лонуол, --- когда человек будет питаться мыслями и рождаться от платонической любви». Вдруг он предался изумительным фантазиям. Он отказался от избрания Ороэ, чего никогда не случалось прежде, построил недалеко от столицы Генэри, на скалистом мысе западного прибрежья, чудесный дворец, но не включил его в общую городскую сеть, и с тех пор постоянно жил там, подобно легендарному повелителю, окруженный необычайными обрядами и почестями. Все это казалось вымыслом, даже сном. В стране Талла избегали говорить о Лонуоле.
— Вы плохо кончите! — заключал я.
— Да, — улыбаясь соглашалась Нолла. — Вы многочисленнее, здоровее, счастливее и. бездарнее. Кто был Онтэ? — первый генэриец; кто Везилет?. Да, Генэри привлекает души, затемненные страстями, и многие гибнут, предоставленные самим себе, но в этом и есть те волшебные поэмы борьбы, откуда выходят победители.
И она рассказала мне одну из них, превосходившую все, что я мог представить себе раньше.
III.
Везилету было девятнадцать лет, когда он в первый раз покинул Страну Гонгури. Его спутники тоже были очень молоды. Их предприятие не подтверждалось опытом. В то время еще нельзя было концентрировать достаточного запаса энергии в нескольких кубических метрах. но Везилету было девятнадцать лет. Не уверенный в успехе, он не опубликовал своего открытия, хотя это вызвало возмущение. Последними его словами, насколько я помню, был такой ответ Ороэ:
«Мысль не поэма, не пропадет.»
Гелий замолчал, отвлеченный внезапным порывом.
— Мысль не поэма, — повторил он. —- Ведь это правда, Митч! Мысль неизбежна вроде кори: рано или поздно, а придет человечеству. Если бы не было Ньютона, его законы открыл бы другой; но никто, никогда не окончит «Египетские Ночи». Ах, поймут ли это когда-нибудь на Земле!? У меня была записная книжка, куда я заносил только самое прекрасное во время жизни на океане. Часть я переписал потом, на память, — все что ты читал; но наиболее значительной поэмы «Империализм Солнца» я не мог переписать. Когда мы были в Саянах, был большой недостаток бумаги для махорки. Солдаты сначала искурили мой томик Шекспира, потом принялись за рукопись. Тогда было все равно: как можно было отказать?
Гелий невольно вспомнил пережитые чудовищные походы, снега и страдания и на его лице загорелся гнев, сменившийся спокойным презрением. Он закрыл глаза и продолжал.
— Первые радиоактивные двигатели были слабы и прошло более года, прежде чем генэрийцы вышли на поверхность Санона. Они были голодны; у них не было радия и они не могли вернуться обратно. Чтобы вернуться, надо было выстроить прежде целый город с огромными машинами и очагами силы. Другого выхода не было. И они приняли вызов. но что могли сделать шесть человек на планете в полтора раза превосходившей мир Гонгури? Обе женщины умерли в пути; один из генэрийцев погиб от змеиного яда. Вокруг, с одной стороны, расстилалась огромная равнина, покрытая красноватой травой в рост человека, наполненной бесчисленными существами, с другой, за небольшой речкой, начинался лес и вдали снежные непроходимые горы. Это была экваториальная полоса с ровным и теплым климатом. Они построили дом из обожженной глины и посеяли хлеб. Первая жатва была превосходной. Тогда Везилет начал поиски неведомого случая.
Однажды их глиняный дом окружило стадо обезьян. При появлении генэрийцев они разбежались, но в сознании Везилета уже мерцал план возможного освобождения. И, действительно, через год в плодородной долине, немного севернее экваториальной полосы, генэрийцы встретили становище неведомого племени темнокожих. Они знали богов, огонь и оружие. Новые белые боги взяли их детей и много молодых женщин, а мужчин заставили строить глиняные дома. Женщины рожали странную расу полубогов --- ни белых, ни темных. По мере того, как они росли и учились говорить на непонятном языке, белые требовали все новых и новых жертв. Тогда старые люди собрали совет и решили обмануть чудесных выходцев неба. В одну ночь они снялись и ушли в дебри со всеми людьми, но на следующий же день они поняли безумие сопротивления. Блестящий предмет, огромнее медведя, упал на них сверху и разгневанные повелители очутились среди беглецов. С помощью чудес и смерти они подчинили дикарей и вернули их в прежний плен.
Через тридцать лет в глиняном городе Везилета было более 300 человек, говоривших на языке Гонгури, и еще больше детей, учившихся в настоящей школе. Доменная печь озарила заревом заросли Санона и жидкий металл послушно стал принимать формы железных членов машин. Приближался день, когда старые конденсаторы первого «победителя пространства» должны были снова наполниться энергией, но неожиданная опасность отдалила этот момент еще на много лет.
Среди всех обитателей Санона, взятых в город, самым способным был Умго. В течение двадцати лет он многому научился и, главное, первый понял, что белые люди не боги. Он знал, что, если ударить белого дубиной, он умрет даже скорее, чем зверь. Этого нельзя было сделать только потому, что другой белый тотчас же направит на него смертельный огонь из трубки, которую они всегда держат рукой в кармане. Он инстинктивно ненавидел победителей. Поступки белых он мог истолковывать лишь с точки зрения охотника. Он слышал кое-что о Стране Гонгури, но так как он был только парой рабочих рук, никто не стремился объяснить ему, в чем заключаются великие замыслы генэрийцев; да и времени для этого не было. Зато он глубоко понимал жалобные крики самки, у которой отнимают ребенка. Его мысль была медленна и упорна. И вот однажды он исчез из города вместе с дюжиной других обученных дикарей. На этот раз их нельзя было найти, но через два месяца они появились вместе с тысячами коричневых воинов соседних становий. Умго научил часть из них употреблять лук и деревянные стрелы, чтобы убивать невидимым из-за угла. Вокруг него объединились все ограбленные племена. Первыми погибли рабочие, копавшие руду в горах над городом. Это был опьяняющий успех и прежде чем генэрийцы освоились с положением, мстительные толпы Умго напали на город. Они окружили школу и перебили полубелых детей. Женщины сбежались на их крик и потерялись в толпе. Потом они ворвались в дома и мастерские, разрушив все, что попалось их гневу. Когда генэрийцы сумели организованно пустить в ход оружие и, навалив груду трупов, прогнали дикарей, половина всего многолетнего труда была уничтожена или обесценена.
Умго не был убит, один из всех он не был испуган разгромом, — он только изменил тактику. С тех пор заросли стали непроходимы. Из каждого куста могла взвиться стрела и убить. При таких условиях работа развивалась страшно медленно. Пришлось строить укрепления и ввести боевые отряды для походов за рудой и охраны. Надежда на то, что дикари уйдут, не осуществилась: они были злы и упрямы, как настоящие люди.
Война длилась восемь лет, прежде чем был закончен новый межпланетный двигатель, и казалась настолько опасной, что Везилет взял с собой только одного Марга. Когда же он вернулся в Лоэ-Лэле, он прежде всего собрал несколько сотен молодых генэрийцев, чтобы пополнить светлокожей расой и могучим оружием поредевшие ряды колонии Санона.
Нолла рассказала мне все это очень схематично и кратко, почти так, как передал я, но ее минутная повесть разбудила во мне тысячелетия.
— Так вот почему пьяный генэриец крикнул мне в саду Лоэ-Лэле противоестественное слово: «Война!» Вот почему у Марга такое темное лицо и глаза слишком далеко расставлены друг от друга.
Внезапно я спросил:
— А что, те новые генэрийцы, которые отправились на помощь, тоже будут насиловать женщин и отнимать их детей?
— Ты думал, — ответила Нолла, — что жизнь это только то, о чем говорят в школе? Милый Риэль! Если бы это было так!
Обрывки мыслей и образов, какие бросала мне Нолла, перевернули все мои прежние представления о Мире. Он оказался чудовищным, безмерно разнообразным и грозным. Случилось так, что в тот же день среди вещей Ноллы я нашел изумительный портрет молодой девушки. Ее лицо сияло невероятной страстью, но глаза казались такими далекими и полными мысли, что было неопровержимо, — только подвиг высшего существа мог бы разбудить этот огонь! Вот для чего стоило жить! Я смотрел на нее и мое сознание переполнялось. Умго, с лицом Марга, раздвигал гигантские папоротники, бесшумно, как рысь. Везилет — гений и убийца, обдумывал план глиняного города. Улица Лоэ-Лэле полная шума и удивительных криков. Внизу за деньги покупают вино и душистый дым цветов Аоа. И над всем этим миром такая девушка!
— Кто это? — спросил я, плохо сдерживая свое волнение.
— Это Гонгури, — ответила Нолла, с любовью глядя на портрет. — Скоро она будет избрана Ороэ.
С тех пор я твердо решил навсегда оставить спокойную мудрость Талла ради безумных опасностей того чудесного Мира, который начинал открываться предо мной.
— Окончи вперед свою школу, Риэль, — сказала Нолла, угадывая мои мысли.
После этого мы подружились еще больше.
На шестой день наш блестящий корабль стал приближаться к поверхности планеты Пaон. С непривычной быстротой, усиленное постепенным замедлением скорости полета, стало возрастать ощущение веса, делавшееся все более и более неприятным. Я лежал, прильнув к нижнему окну, и смотрел на растущий диск гигантского мира. Чудовищные океаны занимали большую часть его поверхности, они были неспокойны, разных оттенков от грязно-бурого до темно-синего и на полюсах покрыты огромными шапками льда и снега. Кое-где из этой массы воды торчали темные глыбы суши. Половину видимого пространства занимала однообразная серая пелена туч. Постепенно она стала закрывать все поле зрения и, наконец, мы погрузились в нее бесшумно, как в тончайший пух. Вдруг предо мной раскрылась панорама страны — дикая и величественная: безграничный лес, лесом покрытые горы и в центре свинцово-мутная река — широкая, как море.
— Марг, Везилет, Нолла! — закричал я, с трудом поднимаясь и в то же время внезапный толчок бросил меня обратно, к окну, закрытому неведомой почвой.
— Проклятая тяжесть!
Марг толкнул меня ногой и крикнул: «Вставай!». Сгибаясь под ношей своего огромного тела, он подошел к стене и осторожно открыл тот самый клапан, который едва не погубил меня. Более плотный внешний воздух ворвался к нам, словно порыв бури, неся в себе клубы холодной влаги. Марг вдохнул его несколько раз огромными глотками.
— Безвредный газ, — сказал он.
Давление неприятно усилилось, но заметное увеличение кислорода возбудило нас, как вино. Когда я открыл дверь, мне показалось, что в комнату хлынула вода из горного источника: я никогда еще не испытывал такого холода.
— Одевайся, — приказал Марг.
Мы надели свои необыкновенные походные костюмы и вышли наружу. В нескольких шагах бурлила, подмывая глинистый обрыв, вздувшаяся река. «Паон» стоял в зарослях высоких, чахлых, почерневших от непогоды трав на небольшой поляне, ограниченной рекой и лесом огромных деревьев с невиданно темной листвой. Дул резкий холодный ветер, доносивший откуда-то редкие капли дождя и брызги волн.
— Великолепно! — сказала Нолла. Марг спорил о чем-то с Везилетом.
— Что же, в сущности говоря, им здесь надо? — обратился я к Нолле.
Она ответила в двух словах, что Везилет изучал развитие жизни и намеревался сравнить живых чудовищ Паона с ископаемыми нашей планеты, Марг — его сын, а она решила «просто отдохнуть».
Пара гигантских птиц, шумно рассекая воздух, пролетела над нами, но мы, конечно, не могли воспользоваться обыкновенными летательными аппаратами, веся за троих.
— Идем, — сказал Марг, направляясь к лесу.
— Великолепно! — повторила Нолла, — передвижение в диком мире должно совершаться диким способом. Идем!
С собой мы взяли только кое-какие приборы и оружие. Я шел, держа Ноллу за руку.
Старый лес Паона сразу очаровал нас. Мы переживали множество странно новых впечатлений, так знакомых нам теперь, на Земле, после долгих дней сибирской тайги. Волшебный лес был наполнен голосами удивительных существ, то бледных, выцветших, в неизменной тени совершенно голых слизняков, ужасных карликов, погружавших в наши глаза свой немигающий взор и неуклюже отступавших в мокрые норы, то быстрых зверьков и птиц цвета листвы, мха, коры деревьев и почвы. Лес постепенно поднимался в горы, идти было очень тяжело, земля, покрытая скользкой хвоей и хворостом, казалось, удерживала нас на каждом шагу, словно влюбленная, но мы все же шли и шли вперед, вероятно, несколько заразившись окружавшей нас бессознательной деятельной жизнью. Марг и Везилет занялись своей наукой.
— Как много радости в простом физическом труде — говорила Нолла, задыхаясь. Я наслаждался элементарной силой моего молодого тела и сердца. Приближался вечер.
Внезапный сильный рев, пробудивший во мне бесконечно далекие бездны, раздался где-то совсем близко. Косматый хищник нерешительно приближался к нам, видимо, удивленный странными посетителями его владений. Марг и Везилет занялись фотокамерой, спокойно, словно они были в зверинце. Зверь постепенно смелел, подходил ближе, все скорее и, вдруг испустив торжествующий вопль, встал на задние лапы. Я взглянул на безоружную Ноллу и через миг огромное животное, охваченное страшным током, превратилось в безобразный труп.
— Можно было бы еще подождать, — сказал Марг с холодным неодобрением.
Неожиданно, как все перемены на Паоне, густая тень закрыла редкие просветы неба. Буря закачала вершины и вдруг сверхъестественный ливень ринулся вниз по шумной листве, подобно водопаду. Тысячелетние деревья гудели в вышине и трещали, наполняя мир музыкой хаоса. Мы пошли обратно, как могли, скорее, т. е. вовсе не скоро, не смея повторить вслух возникавших у нас опасений. Но вот, сквозь деревья, пред нами мелькнула поверхность реки.
--- Паон! — закричал я, окаменев.
Марг ругался.
«Паон» плыл по средине реки, качаясь на огромных волнах. Мы побежали вслед за быстрым течением, отчаянными усилиями волоча свои тела, скованные притяжением громадной массы Паона, в то время, как с необыкновенной скоростью гас его короткий день. Наконец, когда светлый диск солнца бухнулся за горизонт, Везилет промолвил хрипло: «Бесполезно». Он остановился, остановилась и Нолла, сосредоточив все свое великое сознание на одном усилии: не упасть. Мои глаза наполнились слезами от досады и жалости.
— Я пойду один, — сказал я.
— Бесполезно, —повторил Везилет, — наступает ночь.
Светящаяся пыль золотых солнечных лучей рассеивалась так быстро, словно на небо целыми океанами лилась тьма межзвездных пустынь. «Паон», сверкая кровавыми отблесками, отодвигался все дальше и также кивал нам из бурного холодного центра почти совершенно прямой реки. На востоке появлялись первые звезды и вместе с ними ветер донес тающие хлопья снега. Надежды, действительно, не было.
— Мы погибнем, — спокойно сказала Нолла, невольно очарованная необычайной скоростью бесшумного шествия мрака.
В ответ, так же спокойно, и, мне показалось, насмешливо, Марг пробормотал на своем удивительном жаргоне что-то вроде: «С какой стати?» или «Ничего подобного».
— Придется зимовать здесь, — прибавил он, обращаясь к Везилету.
— У нас нет пищи, — прервала его Нолла. Марг снисходительно засмеялся.
— Конечно, — сказал он, — вы привыкли к разным фруктам, приготовленным в цветочном масле, к смеси сахара и меда и тончайших жиров, к бесчисленным сортам хлеба и напитков, но здесь нам придется есть звериное мясо и пить воду.
Нолла вздрогнула. Я сказал, что это невозможно. Марг смеялся. Тогда в первый раз я почувствовал, что этот грубый человек превосходил меня не только одной своей физической силой.
Настала ночь. Мы, привыкшие к одиночеству людей высокого социального строя, легли вместе, как маленькое стадо дикарей у дымящегося костра. Марг объявил, что мы вдвоем должны будем по очереди не спать и «сторожить». Я с трудом уяснил себе значение этого слова. Первая половина ночи досталась мне. Сначала я отдался грезам, глядя на раскаленные угли костра, но потом жажда деятельности, вечно жившая во мне, взяла верх и я принялся за подробный осмотр оставшихся у нас предметов. Электрической энергии, сконцентрированной в нашем оружии, было достаточно: три хороших ножа, приборы Везилета и Марга едва-ли на что-нибудь годятся, — впрочем, в металлических сумках для гербария можно кипятить воду; кроме того, нашелся кусок платиновой проволоки. Я пропустил через нее сильный ток, раскаливший ее добела; мне пришло в голову, что таким образом можно резать дерево.
Иногда звериный вой раздавался слишком близко, и тогда я убивал хищников, пока они не прониклись страхом к пришельцам высшего мира и не ушли совсем. И всю ночь в лесу был слышен непонятный треск и гул, словно там гулял пьяный языческий бог.
Когда стало светать, я разбудил Марга и похвастался ему моим опытом с платиновой проволокой. Он заинтересовался гораздо больше, чем я думал.
— Черт! — сказал он, блестя глазами, — мы не напрасно взяли тебя, Риэль.
Этот комплимент был для меня дороже всех, когда-либо мной полученных.
Шел снег, покрывавший берега ослепительной тканью; в их широких белых рамках река казалась еще более хмурой. «Паон» исчез, но я был спокоен, почти счастлив. Рядом со мной лежал Марг, раздувая угли мехами своих легких; было так надежно положиться на его силу. Я уткнулся лицом в шапку Ноллы и мгновенно утонул в мягком пухе сна. Нолла разбудила меня поцелуем: ей показалось, что я сплю слишком долго.
Я молча кивнул на трупы животных, мы без слов поняли друг друга и она крепко пожала мне руку, глядя одним из тех ясных взоров, от которых весь мир становится ясным.
Марг уже стряпал что-то из мяса больших белых птиц. Кипела вода, распространяя теплый пар. Мы отвернулись. Заметив это, Марг подал нам гнездо какого-то зверька, полное мелких орехов.
— Вот, ешьте, пока не очень проголодались, — сказал он со своей обычной снисходительной улыбкой.
Орехи были очень вкусны.
В тот же день мы смастерили замечательный дом, имевший четыре стены, пологую крышу, дверь и окно. На другой день прибавилась печь и обстановка из чурбаков.
Мясо, шкуры, огонь и дерево— что еще надо человеку? Мы не могли погибнуть, но мы не могли, бездействуя, ждать конца зимы.
Марг задумал сначала построить плот, чтобы спуститься вниз по реке в поисках «Паона», но вдруг бросил работу. Вереница покрытых снегом льдин плыла по течению, подобно белой разведке вражьих сил, притаив- шихся где-то у холодных истоков реки. Я не сразу понял опасность.
— Увидишь ночью, — буркнул Марг.
В то время, как мы спокойно спали в нашем новом теплом жилье, снежный ураган, вырвавшийся из полярных пустынь, загромоздил реку плавучим льдом. Утром я нашел наши бревна, с таким трудом спущенные в воду, исковерканными и наполовину выброшенными на берег. Приходилось искать другой выход.
Я не буду говорить, какой драгоценностью оказались археологические сведения Везилета, о том, как мы сделали и научились пользоваться странными предметами, называвшимися «лыжи», не буду говорить о борьбе с холодом, снегом и бурей; здесь на Земле все это старо, как человечество. Вот одна картина, встающая предо мной.
А-а! Я когда-нибудь не вынесу всей бесконечности образов, мчавшихся в моем сознании.
Мы скользим вдоль берега по льду, мечтая о «Паоне», где нас ждет тепло, комфорт, — множество всяких незначительных предметов, ставших сказочно прекрасными. Мы больше недели не мылись, не переменили платья. Наши лица приобрели странный некрасивый цвет от мороза. Нолла хворает. В ее горле какой-то белый налет, ей больно глотать и она почти ничего не ест. Ее знобит. Все же она идет с нами, держась за меня и Марга. Мы не можем оставить ее с Везилетом, чтобы бежать скорее, потому что мир наполняется все новыми и новыми угрозами. Стадо косматых четвероруких с изумительной легкостью следует за нами по деревьям, перекликаясь однообразными звуками. Мы убиваем наиболее смелых, трупы отмечают наш путь, но остальные не отстают.
— «Черт, черт», — бормочет Марг, — «это будущие Умго. будущие Умго». Хуже всего, что он тоже безусловно болен, только не подает вида и молчит. На ночь мы располагаемся у костра под открытым звездным небом и прямо перед нами сияет, как сон или чудо, зеленая звезда Гонгури. Огонь пугает наших врагов, но вот, лишь только утренний свет начинает побеждать желтое пламя дерева, они окружают нас и ведут правильную массовую атаку. Марг, оскалив зубы, рычит: «Умго! Умго!» Они для нас не страшны, но вдруг один, особенно сильный урод, делает сверхъестественный прыжок и легко, как ребенка, подхватывает Ноллу. Его нельзя убить, так как молния уничтожит вместе с ним тело Ноллы. И вот — новая сцена забытых времен: дикая погоня, соперничество напряженных мышц, борьба, где ставкой является человеческая жизнь.
Сперва Везилет, потом Марг отставали от меня, не выдерживая бешеной скорости, но я не уступал. Зверь был вдесятеро сильнее, но мне было легче двигаться на моих примитивных лыжах и меня не стесняла ноша. Иногда расстояние между нами сокращалось, но вдруг он поворачивал ко мне свою злую морду с раскрытой от бурного дыхания пастью и прибавлял ходу. Я не уступал. Мой дух весь ушел в однообразный ритм движения, в первобытный ритм равномерного отчаянного напряжения мускулов. Кажется, за все это долгое время только одна медленная, чуждая мне мысль, проползла в моем мозгу:
— Если всякая дрянь может убить Ноллу, — мир никуда не годится.
Вдруг я заметил, что проклятая обезьяна начинает как-то странно нюхать воздух и беспокойно метаться в стороны. Потом я услышал впереди нас тот характерный треск, причину которого я тщетно старался постигнуть в первую ночь нашего пребывания на Паоне. Зверь остановился и я схватил его за длинную шерсть. Он зарычал и легко отбросил меня свободной рукой, но я успел ударить его ножом. Кровавый гнев вспыхнул в узеньких глазках моего врага; он оставил Ноллу и схватил меня своей страшной лапой. Все остальное в этом акте произошло чудовищно быстро и невольно. Изо всех сил я ударил зверя около кисти; он сразу вырвал мой нож, но все же отпустил меня. И вот было такое мгновение, я поднял свой генэрийский жезл, а он взмахнул моим клинком. Чье движение закончится раньше?. Но я был Риэлем, человеком великого мира и не мог не победить: электрический ток мгновеннее какого угодно сокращения мышц.
Я упал ничком рядом с Ноллой и, теряя сознание от усталости, старался привести ее в чувство. Странный треск повторился где-то совсем близко. Левиафан или демон стоял надо мной, как живая гора, клубившаяся паром. От его дыхания поднималась метель, сбросившая с меня шапку. Я видел, что пещеристые ноздри и мокрые клыки гада падают, приближаются к нам. Какие глаза. о! Я дрожал и, почти парализованный, последней силой воли направил в ненавистную массу испепеляющий заряд и чудовище с жалобным оглушительным ревом ринулось в лес и скрылось вмиг с громоподобным шумом, как нечистый дух. Мы очутились в центре урагана, произведенного движением его чудовищного тела. Я был заброшен в глубокий снег, едва не задохнулся, а когда я подполз к Нолле, то увидел, что из ее полураскрытого рта течет тонкая струйка крови. Нолла умирала, и мне казалось, что вместе с ней умру я. Нас соединяла такая удивительная дружба, скрепленная совсем особенными связями общего крова, общих невзгод, опасностей, страданий и помощи. На минуту она очнулась и улыбнулась, пытаясь подняться. Она по обыкновению скрыла боль и прошептала:
— Не плачь, Риэль. До свидания, Риэль. Живи, как можно лучше.
Это были ее последние слова.
Я видел смерть человека, раздавленного бездушной массой. Воистину я был несчастнейшим из людей прекрасной Страны Гонгури! Впоследствии мне одному пришлось увидеть множество смертей и убийств и эти впечатления выпили своими красными жадными губами мою прирожденную жизнерадостность. Поэтому я здесь, поэтому я покинул Страну Гонгури, о которой с тоской вспоминаю теперь.
Гелий прервал свой рассказ. Со странным смущением он посмотрел во тьму решетки и на лицо своего молчаливого слушателя, провел рукой по нарам, чтобы вернуть немного ощущение реальности и продолжал, помолчав:
— Не помню, как долго я лежал без движения, созерцая драгоценный труп: может быть час, а, может быть, пять часов. Потом во мне возникла страшная злоба. Я поднял Ноллу и медленно пошел обратно, убивая по пути все живое. И только взглянув на мудрое, беспредельно спокойное лицо моего мертвого спутника, я бросил оружие. Скорбь и внезапное безучастие отняли у меня силы. Не замечая, я долго шел с непокрытой головой, пока не догадался надеть шапку Ноллы. Ветер тихо перебирал золотые волосы. Меркнул день.
Только поздно вечером я нашел дымный огонь Везилета и Марга. Что было нам говорить?. Мы не могли похоронить Ноллу так, как она хотела и как хоронили всех поэтов, т. е. отправить ее труп в прозрачном гробу, освобожденном от сил мирового тяготения, в беспредельность звездных пространств и нам пришлось сжечь ее прекрасное тело на большом костре. Пахло горелым мясом. Марг бредил. О поисках «Паона» мы больше не говорили. Я кое-как устроил шалаш из коры и сучьев, в первую же ночь его наполовину занесло снегом. И в этой берлоге мы жили семьдесят дней!. Впрочем, нет, Марг освободился раньше. Его болезнь перешла в потрясающий жар. Он умер.
О, я помню эти дни! .Нет, — надо сказать: ночи. Дня почти не стало. И вместе с тьмой росли холод и метели; но каждый час я выползал на сверхъестественную стужу расчищать сугробы. В углу на груде вонючих шкур метался Марг, выкрикивая непонятные названия. «Ра, Тараге, Огу!». Везилет неподвижно сидел у его ног. Он ничего не говорил, подавленный и бессильный. Я был предоставлен самому себе. Как циклоп, грязный и закоптелый, я должен был поддерживать неугасимый огонь, греть воду и убивать животных. Когда умер Марг, Везилет присоединился ко мне; мы построили рядом другой, более чистый домик, а прежнюю нору преобразовали в баню с глиняным котлом и печкой. В первый раз я увидел, насколько мы, жители великолепных городов, забыли первичную, непроницаемую тьму природы. Когда-то у меня было изнеженное тело, подобное тропическому цветку. и вот, теперь, я выхожу из дьявольской раскаленной парильни, построенной по образцу, заимствованному из музея в Танабези, и одеваюсь на морозе, при свете туманной влаги, освещенной звездами. То, что раньше казалось невозможным, стало действительностью; но так как прежнее было более реально, чем настоящее, то по временам все становилось непрерывной грезой.
Везилет стал для меня ближе и понятнее. Я так хорошо помню его в это время: у очага с записной книжкой, впавшего в экстаз мысли. Я думал, что он мог бы жить в Лоэ-Лэле, и женщины, подобные Гонгури и Нолле, любили бы его; но вместо этого он всю жизнь провел в грубой борьбе с опасностями диких миров. Какая сила влекла его по этому пути? Не то ли смутное беспокойство, что оторвало меня от чудесной жизни в моей школе? Везилет улыбнулся и заговорил со мной как с равным о последних достижениях науки и о той таинственной страсти, что словно ледяной газ сжигает мозг вдохновенных мыслителей. Так мы беседовали с ним у огня, прислушиваясь к вою зверей и вьюге, и моя душа впитывала его невероятную железную мудрость. Мне казалось, что никогда ни у кого я не встречал такого ясного и мощного взгляда на жизнь и таких знаний. С тех пор я сам изменился, стал другим, — не прежним беспокойным мальчиком Риэлем, а стойким учеником великого союза Ороэ.
Однажды я вернулся ликуя: солнце дольше обыкновенного задержалось над горизонтом. С той же стихийной скоростью события понеслись в обратном порядке. Снег не выдержал и помчался к реке грязными струйками. Лед раскололся и поплыл, крутясь и сталкиваясь, с веселым шумом. Грязная земля покрылась цветами и вдруг высохла и запахла зноем. Огромные бабочки вылупились из своих куколок, амфибии и змеи наполнили траву, птицы вернулись с юга. Я никогда еще не представлял себе смены времен года; и вдруг, наяву, я увидел как ожило заколдованное царство!. Что было раньше: смерть или жизнь? Все соединено в одном круге. Я был очарован и мне казалось мир наполовину наполнился галлюцинациями. Сверкающий «Паон» летел в голубой яри, приближаясь ко мне. Люди, подобные тем, каким я был когда-то, вышли из него и более ясные, чем сон, приветственно подняли руки. Я испугался и бросился к Везилету. Но то была не галлюцинация. Пять человек вошли к нам в избушку, повторяя: «Как долго мы вас искали! Какое счастье!» и т. д. Это были генэрийцы.
IV.
«Паон» нашелся в десяти градусах к югу, выброшенный разливом на песчаную мель. Среди вещей Ноллы я нашел портрет прекрасной Гонгури и с тех пор он остался моим знаменем на пути к возвышению. Везилет и трое прибывших остались продолжать исследования. Я вернулся в страну Талла. Нечего говорить о моих восторгах. Впрочем, я скоро заметил, что после дикого смятения Паона размеренная жизнь, в какой я очутился, стала казаться мне странно чуждой, коллективизм моего народа — преувеличение, ведь я один боролся с чудовищами! И было скучно от математически правильных коридоров с рядами аудиторий по сторонам, от алмазных ромбов, покрывавших пол, от цилиндров колонн, от параллельных линий, от безжалостно знакомых поступков людей. — «Ах, что бы мне сделать?» — думал я с тоской. В чем счастье? Недавно это был отдых у огня после длинногo перехода и спокойный сон для мозга и мышц. А теперь что? — «Может быть это — тень от нездешних идей, может быть — совсем близко». бормотал я слова поэта. Я был несчастен. Сэа, моя подруга, лучшая из всех, казалась слишком самоуверенной, когда я смотрел в лицо Гонгури; остальные были ничтожны. Тогда во мне возникла потребность в более серьезной работе, чем школьные занятия. Мне удалось усовершенствовать один из двигателей воздушных кораблей, сделав его еще легче. Я видел, как мои машины распространились всюду, но никто даже не знал моего имени. И в то же время я услышал поразительную весть об избрании Гонгури в Ороэ! Я видел ее на экране гордую и чудесную, с невидящими очами, стоявшую пред мировой толпой, и краска горячей крови заливала мое лицо.
— «Как ,— думал я, волнуясь,— какая-то девушка, сочиняющая стихи, носит эмблему Рубинового Сердца, а я торчу здесь! Нет, так не может продолжаться дольше!» Мне было восемнадцать лет. Я оставил школу и жил вместе с Рунут, читавшим Высшую Телеологию ¹¹ в Танабези. Мне ничего не было жаль там, кроме него, и, может быть, Сэа. Рунут — кажется он был моим отцом— не стал меня отговаривать.
— Я был там и вернулся,— сказал он, улыбаясь над моим тщеславием.
Это меня смутило, но в моей душе все время волновался образ здания, величайшего в мире, воздвигнутого в центре Лоэ-Лэле. Его названия менялись в течение веков в зависимости от того, какая сила казалась наиболее величественной и всемогущей. Когда-то это был Дворец Революции, в эпоху «Союза Побеждающего Духа» — Храм Истин, в мое время — Дворец Мечты. Я был исполнен пламенным намерением без конца, самозабвенно работать в его лабораториях и достичь чего .? — этого я сам не представлял себе ясно. Во всяком случае, я хотел испробовать силы на какой-нибудь более значительной проблеме, чем улучшение простой машины. В Лоэ-Лэле я прежде всего посетил Везилета. Он выслушал меня очень ласково и сказал, положив как другу руку на мое плечо. «Нет, большое достоинство, что ты придумал свою машину, Риэль, но то, что ты так молод, действительно заслуживает внимания».
На другой день я получил две комнаты на Звездной улице, высоко над морем и розовыми садами. С первых же дней я перестал принадлежать самому себе. Сады Лоэ-Лэле поднимались в горы, на восток и север и на их склонах постепенно переходили в лес, вернее, запущенный сад. Строители города дали направление водопадам, засеяли отдельные холмы цветами, привили плодовые деревья, и потом все было оставлено влиянию времени. Стихии нарушили план людей и всюду внесли свой дикий отпечаток. Но эта запущенность нравилась мне больше великолепия прибрежья. Мне нравилось лежать в зарослях левкоя и дышать воздухом высших слоев на вершинах скал. Когда я смотрел вниз, то видел Лоэ-Лэле, подобную фантастическому флоту в темно-зеленом море и в самом центре, на невероятной лучистой площади — великий Дворец Мечты. Там были сосредоточены лучшие сокровища человеческого гения. В середине возвышался купол старинного храма Побеждающего Духа. И там, на самом верху, на высоте трехсот сажен, стояла громадная статуя такого же восходящего к свету юноши, как на берегу моря, в точке пересечения набережных. Только рука его не искала опоры, а смело простиралась к небу и он не закрывал лица от солнца. И всякий раз, когда я смотрел на прекрасную статую, я давал себе слово в тот же день приняться за неведомый великий труд. Но когда я спускался в лабиринт Дворца Мечты, мое настроение мучительно падало. Неисчислимые толпы наполняли его аудитории, музеи, библиотеки, неисчислимые противоречия отравляли его воздух тончайшим ядом. Оглушительные фразы, непонятные и сложные доказательства проносились по многоликой душе, словно вихрь, более могущественный, чем грозы Паона. Я видел, как люди извивались и стонали от пронизывавшей их мысли, я видел их безмолвными и равнодушными к внешнему над шуршащими листами книг. Я видел налившиеся кровью глаза и дрожащие тела, разрушаемые невидимой борьбой идей, и не мог понять, не мог разобраться в их великом хаосе, найти проблему, достойную моего воодушевления. Я возвращался домой, томимый смущением. На время я постарался забыть о своих мечтах о величии. Было так хорошо, полулежа на мягких диванах, созерцать с кем-нибудь в глубине экрана театральные представления или слушать музыку или просто смотреть в громадное окно на сияющий город и темное небо. Легким движением руки я приводил в действие систему приборов и через минуту получал из библиотеки книги Ноллы и Гонгури. Воспоминания о Нолле, овеянные дымкой таинственной грусти, любовь к другой, казавшейся далекой и сказочной, поэзия, подобная чистым кристаллам, отражавшим вечные пространства, грезы и голоса юных томлений скоро сделали то, что я сам стал писать стихи. Чаще же всего я проводил время между землей и небом с девушками Генэри и на золотом пляже у лучезарного моря.
Мой дух мог заснуть, но не погибнуть и скоро сильный толчок заставил меня очнуться. Однажды над водной ширью, в лучах заходящего солнца я кружился среди таких же красивых существ, как и я. Мы занимались тем, что ловили птиц и отпускали их с разноцветными розами. Это был детский спорт и мы были веселы, как дети. Вдруг я заметил молодую девушку, быстро летевшую мимо. Она грезила о чем-то и мчалась вперед с неподвижным взором, созерцая бирюзовое небо, где начинали сиять самые большие звезды. Улыбаясь от радостной беспечности, я догнал ее, приглашая присоединиться к нам. Она не сразу поняла меня и потом, когда я был совсем близко, бросила на меня взгляд, исполненный плохо скрытого негодования. И только тогда я заметил рубиновое сердце — признак Ороэ. Я узнал ее: то была Гонгури, моя Гонгури!. Я был уничтожен, испепелен этим мгновенным взглядом. Я мог лишь молча поднять руку в знак уважения и бросился вниз, на землю, дрожа и закрывая лицо руками, хотя никто не мог меня видеть. Я опустился на плоский камень пустынного берега и упал на него лицом. Так я лежал очень долго. Потом постепенно во мне возник великий гнев. Я встал и поклялся звездному небу, что какой угодно ценой стану достойным хотя бы лучшего взгляда Гонгури.
На другой день я снова заблудился в лабиринте мыслей Дворца Мечты. Мне снова показалось, что меня окружает безнадежный хаос и я никогда не отличу в нем истинно-ценного от хлама. — но вот, я снова услышал Везилета. Закрыв глаза, я вижу его, как наяву: высокий, седой, вечно дымящий листьями Аоа, пахнущими эссенциями тропических смол. Он был прекрасен среди множества приборов и машин, прекрасна была его речь -- чистая и сухая, как треск электрических разрядов и в центре ее — светлые сверкающие глаза юноши, излучающие вдохновение и невероятную волю. Он не читал определенного курса. Разные сведения можно получить из книг и потому он говорил лишь о том, что волновало мир и тянул нас за собой на высоты подлинной науки. Я дрожал на его лекциях, как любовник, и бледно-коричневая кожа моего лица становилась огненной от возбуждения. Случилось так, что в то время вновь разгорелся давнишний спор о строении материи. О, Митч, тогда идеи были для меня чем-то другим, чем теперь!
У них был другой повелительный тон! Они захватывали сознание до крайних глубин! Здесь, на Земле, такой силы нет даже у голода! Страсть, овладевшая мной после встречи с Гонгури, лишила меня способности спокойно рассуждать. Я был влюблен безмерно и чисто. И вот, под влиянием жажды найти еще неведомое, во мне возникла отчаянная, фантастическая мысль: достигнуть громадного, почти бесконечного увеличения и собственными глазами посмотреть из чего состоит Мир!
Я еще не знал настоящих трудностей систематической работы и терновых венков творчества, но я жаждал всех страданий ради достижения цели. Я изучил все машины мира и много наук, надеясь найти в них хоть намек, хоть тонкую нить, чтобы войти за ней в царство тайны. Прошло два года. Я похудел, мои глаза приобрели сухой блеск первой настоящей боли и я стал искать одиночества. Я полюбил пустынные места в горах, далеко к северу от Лоэ-Лэле, у задумчивых нечеловеческих изваяний, высеченных неизвестным скульптором. И там внезапно настал мой великий миг.
Я лежал на плоском камне, моем обычном убежище, отдыхая от непрерывных мыслей и неудач. Мой взгляд неподвижно покоился на миниатюрном диске нашей луны, в глазах расплывался серебряный свет и, кроме него, мой мозг не воспринимал никаких ощущений. Вдруг в его полусонных глубинах сверкнула, охватив от края до края весь невидимый горизонт, чудовищно яркая молния. В одно мгновение я был на ногах. Машина Риэля была найдена. Я не помнил явившейся мысли, так как она была мгновенна, но я знал, что она живет во мне и теперь остается только расшифровать ее.
Я не Риэль, я — Гелий, человек худшего мира. Я не могу вспомнить идеи моего изобретения и потому тайна его отодвигается в неизвестную пучину будущего. Но я был Риэлем и делал великие открытия, и одно из них сбросило меня отсюда. Еще два года я почти не спал, бледнея в лабораториях фантастического здания, два года с безумным темпом мысли я переходил от книг к вычислениям, от вычислений к опытам и лекциям. Гонгури пришла ко мне смотреть в горящие глаза, вечно погруженные в странную работу, и я достиг наконец ее желанного взгляда, но в то время моя душа пламенела иной всепоглощающей страстью и я принял его лишь как случайную награду, совсем крошечную награду.
Однажды Гонгури спросила меня, чем я занят? Она стояла так близко и ее рука так дружески сжимала мою, что мне захотелось говорить о любви, но я сдержанно и уклончиво ответил, что стараюсь «постигнуть тайну материи».
Гонгури покачала головой.
— Нельзя постигнуть тайны Материи, не зная тайны Духа,— сказала она; но ее поэтический идеализм вызвал во мне только снисходительную улыбку.
С тех пор я часто замечал издали сияющий взор Гонгури, уделяя ей и всему окружающему лишь немногие минуты и незначительные слова. Я знал одни вычисления, бесконечно сложные вычисления.
Я работал в гигантских «Мастерских Авторов», занимавших фундамент Дворца Мечты. Здесь выделывались новые машины, все без исключения, как бы фантастичны они ни были. Немногочисленный персонал этой опытной станции прогресса в большинстве случаев ничего не знал о данных заказах, отмечая только их итоги. Во главе мастерских стоял старикашка Пейрироль, выбранный туда за свою нечеловеческую любовь к машинам. Днем и ночью я видел его проверяющим мускулы своих железных любимцев, то изящных, хрупких и сложных приборов для точнейших измерений, то огромных электрических молотов, изрыгавших торжествующий чрезмерный грохот в атмосфере стальных плавилен. Тысячи тонн металла выбрасывались вверх, освобожденные с помощью поверхностей онтеита от своего веса, и вновь падали, давя на чудовищные рычаги, наполнявшие движением все гигантские залы Дворца Мечты. Я сроднился с этим вечным движением, шумом, визгом и шелестом, выделывая части моей машины и торопя помогавших мне мастеров из студентов верхних этажей. Десять раз модель оказывалась недостаточно точной, десять раз мы принимались за нее снова. Пейрироль встретил меня однажды тонкой усмешкой. По его мнению, я должен был поплатиться за свои фантазии. То, конечно, был намек на существовавший в Генэри эстетический обычай, по которому неудачники всегда старались возместить расходы Мастерских Авторов. Я снова поднялся в аудитории и библиотеки. Однообразными днями я просиживал за чертежным столом или блуждал, не видя, по бесконечным музеям и городам всех эпох, воспринимая сквозь сон сказочное величие и помня все одну и ту же мысль, пока меня не нашли ночью без памяти под лапой атлантозавра ¹². Меня немедленно отправили в санаторий в чудесном бору, где я пробыл около месяца, купаясь в душистых хвойных ваннах; но лишь только я немного поправился, я вернулся в Мастерские Авторов. И я победил! Я первый увидел, наконец, как плотный кусок вещества превратился в мелькающий вихрь светящихся точек; но они двигались слишком быстро, сливаясь для глаза в сплошные полосы и я придумал способ следить за ними, следуя всем их бесчисленным движениям. Я научился наблюдать эфемерные, мимолетные явления, замедляя их, замедляя самое время. И много преград преодолел я еще. И тогда я понял, что вовсе не разрешил проблемы, потому что все числа равны перед бесконечностью; но лучших результатов я и не ждал. «Неделимые» превратились в сложные светящиеся подобно звездам тела, окруженные спутниками меньших размеров. Для высшего сознания в том не было ничего странного, ибо что же в самом деле есть величина и длительность?
Гелий вздрогнул.
— Стало холоднее,— сказал врач.
— Нет, как страшно: что это, отражение идей, повторявшихся со времени Бернулли ¹³, или, может быть, вовсе не сон?
— Страшно? Тебе страшно?
— Нет, нет, но слушай, что было дальше!
Я улетел к Везилету поделиться с ним моим успехом. Он встретил меня с недоверием, потому что давно знал о моих невероятных занятиях, но когда я стал излагать ему свои идеи, он так увлекся, что слушал меня много часов подряд. Моя слава росла быстрее шума приближающейся лавины. «Риэль, Риэль, Риэль» — кричали экраны.— «Риэль, Риэль» . повторяли невидимые токи. Осуществилась моя мальчишеская затаенная греза: гении Ороэ избрали меня в число своих членов и вместе с чудесным рубином мне был отдан прекрасный старинный дворец среди садов западного прибрежья. Волнующая и радостная церемония посвящения, сохранившаяся, подобно осколку красоты от далекого прошлого, должна была совершиться в ближайший день. А я? — я переживал странное безучастие к моему триумфу. В другое время он несомненно, доставил бы мне величайшее удовлетворение, но время действительно есть нелепость. Можно прожить десять лет и сохраниться как уродец в спирту и можно стать совсем другим в несколько дней. За четыре года моего пребывания в Лоэ-Лэле я очень изменился. Во мне уже не было прежнего избытка жизни, я двигался медленнее, улыбался реже и говорили, что моя улыбка была напряженной. Может быть, это было лишь временное утомление, преходящее влияние бессонных ночей, листьев Аоа и напряженной мысли, но я был склонен считать мое состояние тем конечным пунктом, куда приходит всякий разум. И, странно, умирая от усталости, я в то же время испытывал мутящую пустоту наступившей бездеятельности. Ах, Митч,— то была тоска, которая всемирна, присуща всякому сознанию и возникает даже в раю!.
У меня была бессонница. Я лежал в большом зале на мягком черном диване и мои глаза были открыты. Я был один. Тишина ночи нарушалась только легким плеском струек воды, лившейся в углу из мраморного экрана. Они освещались у своих истоков яркими сконцентрированными лучами всех цветов спектра, переломлявшихся в воде, словно каскады самоцветных камней. Блики мелькающего света блуждали по комнате, отражаясь в полированном металле моей машины, стоявшей почти в центре. Я подумал о том, что мне надо уснуть, для этого следовало бы принять лекарства, но мне не хотелось вставать. «Темнота лучше всего», прошептал я, движением руки гася свет, сиявший в разноцветных струйках. Стало темно, но не совсем. Какая-то бледная тончайшая пыль наполняла воздух. Я оглянулся: свечение исходило от небольшого сильно фосфоресцирующего шара, лежавшего в руке статуи, изображавшей мыслителя. По-видимому, все вместе — статуя и удивительный шар—представляли собой нечто вроде художественного ночника. Я отвернулся и попытался заснуть, но не мог. Свет раздражал меня и я не мог забыть каменного лица, отражавшего напряженное внимание неведомого духа, неприятно бледного лица, освещенного голубоватым сиянием. Тогда я встал, подошел к статуе и, вырвав из ее руки светящийся шар, испещренный, словно человеческий мозг, ветвистыми жилками, соображал, куда бы его забросить. И вдруг у меня явилась мысль исследовать вещество этого шара в моей машине,— случайная незначительная мысль, изменившая все видения моего бессмертного существования!
V.
Гелий внезапно замолчал, охваченный непонятным возбуждением. Врач подал ему табак.
— С этой мыслью я вошел в Страну Гонгури,— сказал Гелий.— Да. представляешь ли ты смену моих переживаний? Все, что я рассказывал, есть как бы воспоминания Риэля, все, что я расскажу, я пережил на самом деле, и эти образы, живущие во мне, обладают таким же тоном реальности, как мои представления о ходьбе по каменному коридору с прелым воздухом и гуле замка в тюремной двери. Я знаю, все можно объяснить фантазией, но тогда фантазия — это настоящая жизнь. Слушай!
Очарованный своей мыслью, я подошел к машине, держа в руке светящийся шар. Его слабое сияние едва выхватывало из мрака отдельные предметы. Сквозь громадное пустое пространство открытого окна виднелось безлунное небо и легкий теплый ветер дышал благоуханиями садов. Было темно, но высокие кипарисы — факелы мрака — все же выделялись на звездном небе. Маленькие метеориты иногда сгорали, мгновенно отражаясь в море. Вдруг, осветив все прибрежье, вспыхнула зарница. Моя машина призрачно сверкала полированными поверхностями своих бесчисленных частей, то громадных, то удивительно тонких и миниатюрных, когда я устанавливал Голубой Шар. Машинально я привел в действие многие механизмы и, взойдя на особое возвышение, заглянул в окуляр. Так я помню все очень ясно.
Молекулы неизвестного фосфоресцирующего вещества оказались чрезвычайно сложными. Они отражались на жемчужном экране, подобно настоящим звездным скоплениям ослепительно сверкающих частиц, стремившихся в поле зрения потоком бриллиантов. Почти против воли я замедлил увеличение, любуясь красивым элементарным зрелищем, напоминавшим мне прежнее увлечение искусством сияющих цветов. Потом я уловил движения одной выбранной наудачу частицы и стал постепенно приближать ее, созерцая. Это была простая желтоватая звездочка, и я оставил ее, заинтересовавшись одной из планеток. Неведомые силы наклонили ось ее вращения по отношению к центральному светилу более, чем на 20°, вследствие чего каждое полушарие то замерзало, то пламенело от зноя, как Паон. По разным признакам я определил, что колебание температуры в умеренных поясах кое-где достигало ста градусов и больше. Я приблизил этот маленький адик еще и мой взор упал на синюю поверхность океана. Развлекаясь, я мгновенно отодвинул его в сторону и очутился в лесу настоящих деревьев. Группа прелестных четвероногих, напоминающих антилоп, паслась на берегу ручья. Вдруг маленькое стадо с непостижимой быстротой исчезло в чаще, но одна из антилоп осталась. То могучий желтый хищник, подкравшийся невидимо как злой дух, убил ее, одним движением разорвав ей горло. Быстрое пламя наполняло мои жилы.
Итак жизнь вездесуща! Я вспомнил, несколько дней перед этим во время туманного разговора о последних тайнах, Везилет рассказал мне о своих новых исследованиях явления мировой энтропии ¹⁴ и о своей любви ко всякой жизни, вступающей в неравную борьбу с этим грозным процессом вечного обесценения энергии. И вот внезапно оказывается, что жизнь насыщает собой мертвое вещество, повторяясь в однообразных формах и арена мировой битвы расширяется невероятно. Да, Везилет будет восхищен.
Желтый зверь начал пожирать свою добычу. Я отвернулся.
Что это? Предо мной было более обширное пространство, свободное от леса, и в центре кучка жалких жилищ вроде тех, какие мы строили в дебрях. И здесь же, около самого большого шалаша, плясали черные обезьяны, вооруженные длинными палками. Мое волнение было безмерно. То были люди, почти люди!.
Двое дикарей вышли из шалаша и на их пиках, как сон, я увидел мертвые белые головы настоящих людей. Потом внезапно вместе с оравой уродов, окруженных маленькими чертенятами, на моей страшной сцене появилась нагая белая женщина. Началась таинственная оргия. Черные самки зажгли костры. Ходячая выставка амулетов и бус из зубов животных закачалась, гримасничая, среди них «Жрец», сообразил я. Блеснул нож. но женщина так страстно хотела жить, что умоляла о пощаде и, извиваясь, упала на колени. Жрец начал мистический танец. И кажется в одном из дикарей она пробудила если не жалость, то похоть. Намотав на руку распущенные светлые волосы, он потащил ее прочь. Вдруг черная женщина, как тот желтый хищник, мгновенно бросилась на свою соперницу и впилась ей в горло. В минуту они слились в чудовищный комок вьющихся тел. Потом все было кончено и жрец нагнулся над распростертым трупом и широким ножом привычным единственным взмахом руки отрезал ее грудь. Он тщательно облизал кровь и отдал мясо победительнице.
О, боль моя! Я впал в полугипнотическое состояние и смотрел лишь поэтому. Когда же я оторвался, наконец, то закричал, зовя людей, почти теряя сознание, но я был совсем один в тот поздний час и никто меня не услышал. Когда я несколько успокоился, я вспомнил о белых людях, созданных подобными нам, и подумал, что их жизнь, вероятно, меньше походит на безобразный кошмар. Тронув микрометрический винт, чтобы не увидеть прежних дикарей, я вернулся к созерцанию странного мира.
Предо мной очутилась одна из многолюдных столиц светлокожих. Если бы не снег, покрывавший ее улицы, она совсем напоминала бы города нашего далекого прошлого: случайное расположение узких улиц, возникавших столетиями, поразительное неравенство зданий, то убогих, то красивых, невообразимая скученность, экипажи, запряженные сильными четвероногими, вагоны, движимые электричеством, передававшимся по проволоке, громоздкие машины и суетливая толпа,— все это я видел когда-то мимоходом в стеклянных залах музеев Дворца Мечты. Но скоро, очень скоро я убедился, что в жизни нового человечества было много страшных особенностей, иногда неопределимых, какой-то общий тон, совершенно чуждый, безнадежно отделявший ее от жизни Страны Гонгури. Ах, что это был за удивительный мир!.
Я увидел вокзал и поезда, катящиеся по рельсам силой перегретого пара. Из тесных вагонов выходили люди и тащили громадные сундуки и узлы, изнемогая под их тяжестью. В одном месте люди подрались. «Частная собственность»,— сообразил я.
Следуя за этими поездами, я перевел мой взор вглубь страны. Больших городов оказалось чрезвычайно мало. Вообще городов оказалось мало. Масса разноцветных людей жила в небольших поселках, более или менее жалких и грязных и едва ли белые дикари сильно отличались от черных.
Мои впечатления становились все безотраднее. В полушарии материков царила зима и громадные пространства были покрыты сплошным саваном снега. Я рассматривал ландшафт унылой страны. Затерявшиеся, потонувшие в сугробах деревушки, где все живое, скот и люди, погружалось в зимнюю полуспячку, дым, змеившийся из всех отверстий избушек, а кругом, без конца, белая пустыня, угрюмый лес и замерзшие воды, — все это живо напоминало мне картины Ада, поэмы Неатна, этого загадочного и великого мыслителя древности. Вот предо мной человек, одетый в шкуру барана; в одной руке он несет, размахивая, несколько убитых зверьков, а другой ведет детеныша, закутанного в тряпки; за ними следует теленок; они входят в один из домиков и теленок входит за ними; внутри на голом полу лежит старик в шубе, в шапке и качает ногой люльку, под которой суетится выводок щенков. Люди жили вместе с животными и, вероятно, как животные. Я вспомнил о своих страданиях на планете Паон, о болезнях и холоде и невольно вздрогнул, так как все, что мне пришлось пережить в течение нескольких месяцев, было обыденным и привычным в жизни неведомого племени.
Я долго блуждал в новом мире и меня трясла лихорадка странного возбуждения. Мои мысли мчались, как ураган, я страшно резко и быстро улавливал смысл открывавшихся предо мной картин, дрожа от их потрясающих подробностей, и скоро приобрел довольно точное понятие о жизни нового человечества. В одном месте при свете луны я увидел поразительную и громадную статую, воздвигнутую на пороге великой пустыни: зверь с лицом человека. Я был уверен, что неизвестный художник олицетворил в этом уроде все свое человечество. Каждое новое впечатление подтверждало мой вывод. Я заинтересовался толпами одинаково одетых мужчин, шагавших в ногу, возбужденно горланивших и вооруженных длинными ружьями, оканчивающимися ножами. Смутная догадка, жуткая, как мысль о противоестественных гадостях, возникла в моем горящем мозгу. Мгновенно я отдалил от себя планетку и то, что я увидел, совсем не согласовалось с моим представлением о войнах, почерпнутым из древнейшей истории Страны Гонгури. Здесь не было ни армий, двигающихся вперед с храбрыми предводителями во главе, ни осажденных городов, героически обороняющихся против врагов. Здесь были осажденные страны и вооруженные народы. В глубоких длинных ямах, вырытых бесконечными параллельными рядами, дальше чем от Лоэ-Лэле до Танабези, стояли люди и целились друг в друга. Привычным взглядом я оценил поразительное совершенство огнестрельного оружия и военных машин, применявшихся во враждебных армиях, каких никогда не было в Стране Гонгури. Это была скорее не война, а коллективно задуманное самоубийство. Так спокойно, медленно и чудовищно методично совершалось массовое истребление жестоких крошечных существ. Меня тошнило.
Каждое новое движение микрометрического винта приносило все новые непонятные и пугающие видения. Среди снегов и у лазурных заливов, среди снежных пустынь и пустынь раскаленного песка я видел батальоны, везде батальоны. Я видел армии, отступавшие под натиском сильнейших врагов. Люди ползли и бежали, сталкивались в рукопашном бою, гибли тысячами, чтобы возвратиться к исходной точке. Я приблизил планетку. Предо мной были тяжелые пушки наступавших войск; они торопились, но на дороге пред ними был глубокий ров и они не могли его миновать; тогда солдаты бросили в него убитых и потерявших сознание и металлические чудовища медленно проехали по этой массе, мешая вместе грязь, мозг и кровь. Я видел мертвые города. Пустынны были улицы, пустынны были дома; не мчались токи по проволокам, не катились вагоны, умерли заводы. Только маленькие четвероногие хищники бегали взад и вперед, подозрительно обнюхивая разорванные куски драгоценных тканей, брошенных в грязь. И на одном из трамвайных столбов медленно, как маятник часов Дьявола, качался черный труп повешенного. А дальше снова тянулся фронт и огромные глыбы металла, начиненные сильнейшими взрывчатыми веществами, на протяжении многих миль мчались во вражеские укрепления и рвали их в спутанные клочья колючей проволоки, бетона и глины, словно непрерывные извержения грязевых гейзеров, вздымавшихся к небу столбами черной земли и белого дыма, где только угадывалась красная примесь.
Солдаты вылезали из своих ям. Битва достигала апогея. Люди бежали и, вдруг, падали, становясь странно неподвижными. Я видел человека с простреленной головой. Он несомненно, был мертв, но все-таки шел вперед и его лицо еще горело от сверхъестественного возбуждения. Я видел как целая фаланга солдат, одетых в серое, была разрезана пулеметной гущей, словно они сразу переломились надвое — фокусные куклы! Наконец сошлись совсем близко, и я почти услышал внезапно наступившую тишину. И потом животный рев, крики невыразимого ужаса и внезапной боли, и мерзкий железный лязг.
Моим вождем был только случай, но он открыл мне самое сердце Ада. Рядом, с одной стороны, из траншей поползло длинное облако стелющегося дыма и когда оно рассеялось, пространство, заключенное в поле моего зрения, напоминало кладбище солнцепоклонников. Мертвых сменили живые, защищенные безобразными масками. И какие-то громадные машины медленно двинулись на них, изрыгая дым и огонь и, казалось, никакая сила не могла остановить победного шествия этих чудовищ. Они переползли ямы, взбирались на холмы и двигались, почти не меняя направления, давя раненых и человеческие трупы, обмазанные кровавой грязью — подобные фантазии безумца, дрожащего от бредовых идей. Вдруг ужасный взрыв мгновенно разорвал одну из железных машин. Куда-то бросились солдаты с запрокинутыми головами и лица их, быть может мне показалось, были черны, как уголь. Они так и застыли в моей памяти, потому что с порывом шторма белое облако, словно погребальный саван, внезапно закрыло всю сцену. Предо мной клубилась неровная поверхность легкой влаги и на ее фоне я заметил аэроплан. Он сделал несколько кругов и вдруг, как хищная птица, нырнул вниз. О, тревога моей души и безмолвие!
Дальше, в безопасной зоне, я увидел подходившие новые войска — тысячи молодых мужчин, шагавших правильными рядами. О, как были возбуждены их лица! Как они хорошо шли! И я вдруг ясно представил: я иду вместе с ними. Я иду также с непокрытой головой, размахивая своим шлемом, как триумфатор. И все сердца сгорают одним огнем и все мы поем одни и те же песни. Это лучше, чем задыхаться в плохих городах, это лучше, чем копаться в земле и всю жизнь торчать у станков! Под песни жизни мы идем строить новую жизнь. Развеваются звуки по ветру, словно победные знамена, наполняют мир, очищают, как на жертвенном огне, все сознания и нет больше невозможного, нет невозможного. Но вот она, изнанка воодушевления толп! Предо мной было страшно изуродованное поле, словно земля в этом месте покрылась струпьями безобразной болезни. И по нему бродили люди с красными значками на рукавах — символы могильщиков, вероятно,— и подбирали своих братьев. безлицых, безголовых, безногих — жалкие комки запекшейся грязи, бывшие когда-то людьми. А вот, несомненно, трофеи: никуда негодная торжественная рухлядь и пленные. Белые конвоировали белых. И потрясающая группа выделялась среди них. Вот человек с поднятыми в знак пощады руками — он будет поднимать их вовеки, вот сражающийся с призраками, вот человек, который дрожит, вот маски мировой скорби, религиозного экстаза и безнадежного идиотизма. О, какие лица, лица какие!
Я скоро заметил, что развивающиеся предо мной события не были связаны обычным течением времени. Отраженные лучи микроскопического светила каким-то сложным процессом перерабатывались для моего восприятия. Но стоило мне в своем необычайном волнении сдвинуть один легкий рычаг и в мой глаз проникал уже другой ряд лучей, в мое сознание — другие впечатления и не всегда я мог определить, какие из них более ранние и какие поздние. Война. или, может быть, не война,— повальная болезнь, кровавая чума, чудовищные язвы которой я видел в ограниченных полосах страшного мира, внезапно просочилась внутрь страны. Те же пятна войск, разбросанные невидимыми течениями, расплылись по огромным пространствам и, группируясь то так, то иначе, отличаясь лишь едва заметными значками, немедленно вступили друг, с другом в борьбу. Только приемы были примитивные и кровожадные. Впрочем, все это я уже видел. Пленники со связанными руками, которых под дикие танцы медленно топили в реках, пожары, истязания. внезапные порывы великодушия и потом еще более глубокий мрак странных противоестественных страстей, какие может навеять лишь болезнь. Неожиданно я открыл тайну торжества чернокожих, так поразивших меня сначала. О, они были ни при чем эти черные дикари! То было изысканное оружие могущественных белых демонов. Чума царила всюду. Белые истребляли друг друга во всем мире и там, где их было мало, натравливали черных обезьян на своих братьев. или на других черных обезьян своих братьев. И ведь всего ужаснее, так было днем при ярком свете солнца, умиротворяющим какое угодно безумие! Что же совершалось ночью, и там, за стенами их грязных берлог?.
Это не была жизнь, скорее это был театр, проклятая игра таинственных огромных и злых сил. Какие это были силы — я не знал. Может быть, автор представления — величайшая любовь, режиссер — самоотвержение, а марионетки туго набиты самыми светлыми лозунгами? И в то же время было ясно, что все это — зверство, дикость, навоз, безделие, все, что они презирали в просветленные минуты и против чего боролись, было неизлечимо, потому что составляло часть их же душ и, сражаясь с чудовищами, они сами оставались чудовищами.
Несомненно, я страдал ужасно. У меня появилась потребность погрузить мое сознание в бурные воды океана, дающего покой, но даже там, на безбрежной равнине воды, как пятна сыпи, появились сотни огромных военных судов, изрыгавших жерлами титанических орудий свои змеиные плевки. Вдали одиноко погибал брошенный корабль. Объятый пламенем и черным дымом, он медленно погружался в пропасть и обезумевшие, ослепленные люди с разбега бросались в ледяные волны, среди наступающей ночи. Двигались наглые щупальца прожекторов. И волны, отражая огни пожара, казались фантастической зыбью адских болот, где, как говорит великий поэт, вечно мелькают беспомощные руки отверженных, простираясь к пустому небу за несуществующим спасением и ловя только холодный воздух бездны. О, Неатн, если бы ты знал, как художественно неведомые актеры воплотили твои видения. Если бы ты знал. Или, может быть, я сам сошел с ума и обречен видеть только страшные сны? Кто говорил мне об этом? В тропических странах Паона живет удивительный сорт гигантских муравьев. Если разрезать экземпляр этой породы на две части, то половинки, челюсти и жало, с поразительной свирепостью начинают сражаться между собой. Так продолжается каждый раз в течение получаса. Потом обе половинки умирают. Целый мир был подобен такому маленькому чудовищу. Несомненно, новое человечество погибло, по крайней мере то поколение, какие я наблюдал. Что ж, может быть это хорошо! Чтобы уничтожить мор, истребляют зараженных животных. Пусть невидимая смерть пройдется в пьяном вдохновении среди многоликих варваров. Их сменит другая, чудесная жизнь. И вдруг я вспомнил! Ведь в самом центре палящей злобы гибнущего мира могут быть. нет, конечно, есть отдельные великие умы, принадлежащие другим временам и другим расам, обреченные на страшное одиночество, лицом к лицу с всемогущей косностью и вечным возвращением!. Что за поэзия должна возникнуть в этом хаосе? Какие кошмарные, бесчеловечные, самоубийственные грезы рождаются там! И опять нестерпимо ярко мне показалось, что вот-вот миг, молния — и навсегда исчезнет дрожащая грань грез и действительности. Но откуда же эти безобразные сны у меня, сны, как их никогда не было ни в моем сознании, ни в моей крови. Откуда, откуда? .
Я зажег белый свет и некоторое время испытывал ясность моих восприятий. Все было неизменно. Тогда я тронул винт и приблизил к себе планетку. Было раннее утро. В ореоле ледяных радуг вставало красное солнце. Под холмом сбились в кучу всадники и пехотинцы, плясавшие, как дервиши, чтобы согреться. О, я знал, какой это мороз, когда вместо одного солнца на небе кружатся пять! Однажды в такое утро я возвращался с берестяным ведерком воды в нашу нору на Паоне и мои пальцы, одетые в мех, стали неподвижны, как ледяные сосульки. Вдруг я заметил, что от группы солдат отделился совершенно голый человек. Он шел в степь, сжав на груди руки, с безумным лицом, прямо, не оглядываясь, как автомат. Солдаты лениво посматривали ему вслед. Потом один из всадников легкой рысью поехал по тропе, намеченной в снегу босыми ногами. Когда расстояние между ними сократилось на три шага, всадник не спеша занес высоко над головой изогнутую ледяную саблю. Страшный прорез пришелся между плечом и шеей. Человек упал, но все еще был жив. Тогда всадник снял с руки длинную пику и я видел, как голая нога три раза беспомощно поднималась кверху при каждом нажиме. И все это совершалось чудовищно медленно и обдуманно!
Рядом в чаще леса стоял совсем старый солдат и молился. С напряженным вниманием я рассматривал его запрокинутое, обращенное ко мне лицо. Было очевидно, что этот идолопоклонник не имел никакой склонности к своей профессии. Что-то чуждое, какая-то противоестественная необходимость тяготела над ним. Двое других солдат, одетых иначе, подкрадывались к нему сзади. Я ждал, что враги только застрелят молящегося старика, но они не могли шуметь. И потому один из них быстро схватил его за горло — излюбленный прием этого мира — и опрокинул навзничь. Мгновение они боролись. Затем другой солдат равнодушно сунул в извивающееся тело свой нож. И они осторожно поползли дальше, озираясь как хищники и. и. также крестились.
— Митч, ты, конечно, понял: это наша Земля!. Разумеется, я лишь теперь узнал, что Риэль открыл Землю, в то же время, когда я был Риэлем, она казалась мне странным маленьким чудовищем и только.
Эти горы, эта гигантская река, эти океаны земли на восток и запад до обоих океанов, весь этот громоздкий мир, такой великий для нашего глаза, эти звезды и тончайшая разорванная вуаль Млечного Пути, титанической аркой висящая над нами, все бездны, вся жизнь,— только миниатюрный вихрь частиц в какой-то игрушке иного мира!.
Сны, сны! Это мое утомление побеждает меня, это бред наяву!
Огни, трупы, шествия, знамена, смятые шелка, корабли, переполненные солдатами, взрывы, мертвые страны и эта вездесущая красная ткань — кровь — только дикий вихрь, мчащий мой дух в кошмарных сферах! Действительности нет, я не живу! Сейчас я сделаю последнее усилие и проснусь в лаборатории, занятый сложными вычислениями, своим обычным трудом. Я еще ничего не достиг. Это преходящая слабость навеяла мне дурной сон. Ах, да разбудите же меня, наконец!
Врач обеими руками стиснул кисть близкого к припадку юноши. Гелий быстро, как после внезапной раны в бою, вернул свою волю и продолжал, сжимая виски.
— Я старался передавать мои наблюдения над Землей так, как они действовали на меня, со всеми обрывками мыслей, возникавшими в моей душе. Это был кошмар, но теперь я думаю, Митч, разве не страшнее то, что весь пережитый ужас перестал казаться ужасом? Разве даже ты не привык видеть убийство? Разве я не втыкал мой штык в человеческое мясо?.
Я устал и беспорядочно перемещал поле зрения. Война продолжалась. Видения были неисчислимы и я почти не думал о них, но несколько подавляющих картин встают предо мной ясно и неотступно, как эриннии ¹⁵.
Сумасшедшие, грязные, чудовищно истощенные женщины ломились, размахивая пустыми корзинами в запертые двери; но женщины были слабы и двери не открывались.
Огромная, выжженная зноем пустыня. И в ней только одно живое существо — человек. Он лежал неподвижно у маленькой норки и ждал с терпением больного. Вдруг из нее выскользнул серый зверек вроде крысы. Я помню отчаянный прыжок и страшные оскаленные челюсти, раздирающие вонючее мясо.
Большое село. Все двери, все окна, все ходы и выходы для живых заколочены. Люди ушли, убежали от какой-то непреодолимой ужасной силы. И на пустынной улице, на четвереньках ползет невероятный желтый скелет забытой старухи, которая оскалилась на знойное солнце — хохочет или плачет в безумии, как ликующая, единственно — бессмертная смерть!
Дальше!
Великолепная растительность покрыла побережье теплого океана. Мутный поток пенился между камней чудесной лентой, вьющейся между виноградниками, плантациями табака, маслиновыми и миндальными рощами и садами фруктовых деревьев. Легкие яхты скользили мимо мраморных дворцов, останавливаясь у многолюдных пристаней, полных кофейнями, лавочками с фруктами и легким вином. За маленькими чистыми столиками сидели разноцветные женщины, похожие на цветы в своих ярких платьях и мужчины в странных неудобных костюмах с твердыми ошейниками. Они ели пирожные, фрукты, жир и сахар и поглядывали на полуголых самок на пляже внизу. Здесь же около группы изящных легких зданий медленно копошились такие же полуголые люди, едва способные двигаться: они были слишком толсты. Несомненно это была лечебница для ожиревших. Они лежали на солнце, вытапливая сало, и читали курьезные бумажные газеты с десятками страниц. Один из них белый и страшный урод одолел, кажется, все это огромное сочинение с начала до конца. Там, наряду с рисунками разных яств, я видел снимок с того света, с людей из мертвых сел. Толстяк прочел газету, отложил в сторону и повернулся на другой бок. Он был спокоен, мистически спокоен!. Меня тошнило.
Еще два раза я наудачу повернул винт. Вдоль исковерканной дороги мчался чудовищно дезорганизованный отряд. И здесь же у плетня огорода, на какой-то тряпке, валялся крошечный мальчуган, одетый в необыкновенно короткую смешную рубашонку. Я приблизил его так, что он занял почти все поле зрения. Он задрал кверху свои крошечные ножки, подобные корявым побегам карликового деревца, и старался уцепиться руками за их пальцы. Не было никакой возможности разглядеть его лицо, ставшее сплошной сияющей улыбкой, экстазом первобытного счастья распускающегося бытия. «Вот жизнь, которую любит Везилет!» — думал я.
В ста ярдах, у опушки леса, так же безудержно веселились взрослые. Они вели хоровод вокруг пня, где сидел иначе, чем они, одетый человек с красной пятиугольной звездой на лбу (символ завоевателей пяти материков), словно черные у котла с человечьим мясом. И вдруг я увидел лицо, искаженное таким нечеловеческим страданием, таким ужасом, что я сам завыл в безумии, словно меня тоже посадили на кол.
— Нет,— закричал я, дрожа от начинающегося нервного припадка,— нет, я не покажу этого Везилету!
Мне было стыдно, что в моей комнате я нашел такую дрянь.
Я быстро встал и опять захотел выбросить Голубой Шар, ставший совсем тусклым при свете начинающегося дня, но мой взор скользнул по моей комнате, по различным обыкновенным предметам и я замечательно быстро успокоился. Я даже улыбнулся.
— Стоит волноваться. такая мелочь!
И как мы бросаем последний презрительный взгляд в темный угол, где вместо почудившегося призрака оказывается грязное белье, так я с искривленными губами, в последний раз взглянул на Землю.
Предо мной волновалось беспредельное поле злаков. Я смотрел на обещавшие новую жизнь золотые волны и мой дух постепенно очищался от раздражения и невечных мыслей. Я вспоминал другие волны, неизобразимое смятение текучих людских масс на улицах удивительного города, странно многолюдного центра среди пустынных северных равнин. Тогда я не понимал отдельных поступков, но общий смысл творимой жизни был мне ясен. Рвались невидимые цепи, как сон исчезало старое и, в душах потрясенных великим порывом, рождались надежды с новой зари начать новую, совсем другую, лучшую жизнь. О, я знал судьбу этих надежд! Все было открыто мне, потому что мой дух погрузился в транс безграничного созерцания, высшего равнодушия, потому что я стоял на краю великой тайны. Может быть, я заразился чем-то от Земли, но я уже без содрогания вспоминал алые пятна на белом снегу, радостные лица идущих мимо мертвых и думал:«Иногда течет много крови, иногда мало,— не все ли равно?» Прошли века, настало время другим расам плясать под скрипку мишурной смерти. Седая древность встала из могил. Снова загорелись костры и запахло человеческим мясом. Но ураганы проходят. Являются гении; мир становится прекрасным. И только дух человека изнывает в своем величии и ничтожестве и мчится все дальше, и где бы он ни был, пред ним неизменно, везде расстилается Бесконечность. Бесконечность пространства, бесконечность греха, бесконечность грозная, как старинный бог.
Жизнь! Вот целую ночь я жил другой жизнью, но разве она не «одна во всем», как говорит Везилет?
Я был царем и, томимый скукой, убивал проклинавших меня, потому что я был мудр и думал о величии, непонятном звериному народу. Я был рабом и мне ничего не надо было, кроме маленького клочка пахотной земли, но непонятная сила врывалась в мой дом, насиловала моих жен, уводила меня с собой и я проходил тысячи мер, убивал и мучил, повинуясь враждебной воле, и сам мучился от постоянного ужаса. Я был избранником народа и казнил деспотов и вождей черни и толпа ликовала вокруг их виселиц. Я был преступником, мне вырывали ноздри и приковывали к огромному веслу и я должен был двигать его взад и вперед все дни моей жизни. Если я останавливался, плеть надсмотрщика врезалась в мою спину и снова я напрягал разорванные мускулы, пока мой труп не выбрасывали в море.
И кем бы я ни был — убийцей или пророком, во мне осуществлялась одна и та же бесконечная Жизнь. Иногда я возмущался против нее и не хотел играть роли, какую она мне предназначала, я уничтожал ее, но все-таки любил и ненавидел только те сердца, зловоние от разложения которых подобно аромату тяжелых пахучих смол в сравнении с тем, какое они распространяли, когда бились.
Женщина была на моем пути и если я любил ее, я был бесстрашен и побеждал всех. Миллионы лет сменяли миллионы, а Жизнь однообразная, как морские волны и как они же, неповторяющаяся, длилась стихийно, победно, безнадежно. Всегда, всегда я подчинялся ей, подчинялся даже в самой смерти, но теперь я устал и хочу знать, что же Я — смертный Риэль в ее торжественном бессмертии. Я хочу знать. Я хочу знать!.
VI.
Я откинулся на спинку сидения и кажется был бы рад лишиться сознания. И ничего мне не надо было, и ничего не было жаль, и хотелось только без конца спокойно вдыхать чистый утренний воздух, словно мои легкие в самом деле были отравлены ядовитыми газами Земли. Я слишком устал от безмерно увеличенных пространств и странных миров. И постепенно возвращаясь к жизни, я стал испытывать ту светящуюся радость, что овладевает всеми вернувшимися после далекого страшного путешествия. Луч солнца, яркий, желтоватый, теплый проник в комнату. Как хорошо! Я быстро подошел к окну и стал смотреть на пробуждающийся город. Золотая вуаль волновалась предо мной и сквозь нее нежнее казались очертания зданий, залитых могучим ровным светом. Нежные туманы бесшумными лавинами катились с гор, таяли, поклоняясь солнцу, и в полусонной неге обращались к нему неисчислимые зеленые побеги, — первенцы жизни. Ветка вьющегося растения достигала моего окна и на ней колебался, простираясь ко мне, единственный огромный белый цветок. Я коснулся его влажных лепестков болезненно пылающими губами и вдруг открыл в себе совершенно новое наслаждение: в первый раз я испытывал гордость от мысли, что живу в таком прекрасном мире. Вдыхая изумительный аромат, я приветствовал красоту Лоэ-Лэле и жадно смотрел на цветущие лица, на веселых школьников, похожих на белых птиц, гонявшихся за неуклюжими громадными платформами, везшими холмы зеленых, желтых, оранжевых и красных плодов; я ликовал, когда быстрые корабли, как легкие рыбы, мелькали в легком океане неба, и хотел даже немедленно принять участие в этой светлой жизни в воздухе, но потом решил, что мне все-таки надо уснуть.
Я лег и стал грезить о том, что в этот день я пойду рука об руку с Гонгури, последней из Ороэ, во главе великолепной процессии в сумрачную громаду центральных зал Дворца Мечты. У меня возникла также мысль изобрести способ вмешательства в жизнь маленькой планетки. «Люди будут ходить с поднятыми лицами и кричать, жмурясь от счастья: «Освободитель! Освободитель!.». Голубой шар мы поставим вместе с древними реликвиями Храма Сторы и поколения Генэри будут изучать новое человечество и его мир от самой их колыбели». Так мечтая, я постепенно погрузился в обыкновенные обрывки мыслей и образов засыпающего человека, в глазах замелькали изменчивые фосфены ¹⁶, словно мягкие цветные хлопья, и я утонул в них, теряя сознание. И все время мне снился громадный глаз, смотревший на меня из высшего пространства.
Чей-то веселый голос звал меня и я проснулся.
Мне показалось, что это Нолла будит меня ранним утром среди сверкающих снегов Паона. Я открыл глаза. Солнце светило мне в лицо, а на экране пред собой я увидел смеющуюся Гонгури. Я хотел только на миг закрыть глаза, но мелькающие фосфены снова закружили меня и я заснул. Гонгури разбудила меня поцелуем. Нет, я не помню, когда кончился сон и началась жизнь в этой всеобъемлющей волшебной нежности!
Я рассказал Гонгури о своей любви и о нашей первой встрече над берегом моря.
Потом я бросился в холодный фонтан со смесью воды и хвойных эссенций, оделся и, взявшись за руки, мы пошли вместе.
Весь мир сверкал в этот праздничный день как разнообразные кристаллы и мною все сильнее и сильнее овладевала кристальная влюбленность, звавшая к чему-то иному, чем земная любовь.
Мы шли, как повелевал древний обычай, по Звездной улице до самого Дворца Мечты. Я помню, что идти было очень легко и воздух был неизъяснимо приятен. Тысячи генэрийцев тоже опустились в этот день на землю и окружили нас шумным кольцом. Отовсюду я слышал мое имя: «Риэль, Риэль!» И громадное знамя на фронтоне Дворца Мечты трепетало надписью: «Риэль». Тогда, в первый раз, я подумал о существе, высшем чем я, смотревшем на меня и мою страну так же, как я смотрел на Землю. Мое сердце забилось сильнее, но все, кто заметил, объяснили это волнение совсем другими причинами. Между тем невидимые инструменты где-то высоко над нами исполняли гимн Сторы.
— Аvе Маriа, — прошептал врач. Гелий не слышал.
— Стора — девушка, отдавшая свою жизнь ради крупицы знания. Этот полулегендарный эпизод тоже связан с именем Неатна, основателя Союза Побеждающего Духа. Не помню, для разоблачения каких замечательных тайн ему понадобилось наблюдать живое, бьющееся человеческое сердце. Я знаю лишь, что Стора согласилась на этот опыт и не перенесла его. С тех пор ее имя стало торжественным символом и почитание ее превратилось в культ.
Воспоминания о Сторе, туманная музыка, наполнявшая душу хаосом возносящих экстазов, ощущенье бесплотности после бессонной ночи, необыкновенные впечатления и мысли, легкое головокружение и нездоровье превращали меня в какое-то совсем особенное существо. Мое тело двигалось, словно повинуясь посторонней воле,— может быть, нежной силе лучшей из всех девушек, шедшей рядом со мной, а я испытывал безграничное желание совершить что-нибудь превосходящее все поступки мира трех измерений, жажду красоты необычайной. И не было для меня невозможного, только не знал я, что же такое волнуется во мне, что за образ милый такого далекого, такого родного.
Подавляюще грандиозный возник пред нами Дворец Мечты. Сумрачный вход казался узким на залитой солнцем ослепляющей белизне фасада, но, может быть, более ста человек в ряд вошли, не потеснившись, в громадное ограниченное пространство, где каждый звук замирал в отдалении. Подавляюще грандиозный терялся в голубоватом тумане свод и там еще громче и торжественнее лилась прекрасная музыка. И под самым центром в невидимой высоте брошенного купола стояла статуя Сторы и простирала к источнику мира свое сердце, излучавшее неизъяснимо яркий рубиновый свет. Величественно высокий Везилет поднялся на возвышение у ее ног и заговорил, обращаясь ко мне. Он говорил о красоте творческих стремлений, о том, как они зарождались на заре человечества, сначала случайными вспышками, сначала в играх первобытного дикаря или ради его жестоких нужд и, наконец, разгорелись в яркий пожар независимой страсти, приведшей нас к величию. Он говорил о страданиях, так хорошо известных всем нам — они были неисчислимы и все-таки бессильны! — о желанных страданиях творчества и прославлял даже отречение от радостей жизни, если так велит возвышение. — он говорил только давно знакомые фразы, но они звучали во мне подобно гимну Сторы. Потом он простер надо мной и над стоявшими около меня правую руку и я прочел на черном мраморе пьедестала слова мистической клятвы Неатна.
«Есть много прекрасного в мире, но прекраснее всего Истина и сильнее всего.
Это солнце немеркнущее!
Это великая страсть, сжигающая души!
Живите так, чтобы она всегда сияла перед вами и жизнь свою отдайте ради Нее.
И демоны будут побеждены, когда вы поднимете Ее факел.
И если бы даже ангелы преградили вам путь — не смущайтесь, ибо истинно говорю вам, будете тогда как боги!»
Молча, среди полного безмолвия, я преклонил колена. Тогда Везилет опустил на мои плечи нить черных жемчужин с рубиновым сердцем и потом все подходили ко мне, целовали в лоб и выражали любовь, наполнявшую их сознание.
Этот день был очень утомителен для меня, отвыкшего от людей. Меня хотели видеть во всех городах и я долго стоял перед экраном, выслушивал приветствия и говорил одно и то же, созерцая мелькавшие лица. Я был недоволен. Гонгури оставила меня и все время я; изумительно ясно представлял себе, что на меня смотрит глаз существа высшего мира и опять мной овладевала безграничная жажда совершить, нечто столь прекрасное и безмерное, чтобы тот, другой, великий Риэль сразу увидел во мне брата и не мучился от пороков нашей жизни, как я от жизни страшных дикарей Голубого Шара. Только что же мне сделать, что сделать?
Тогда, кажется в первый раз в эти годы, я внезапно вспомнил о Рунут, о Сэа, о безмятежном спокойствии Танабези. Я вызвал Рунут и попросил ждать меня в нашем старом саду, у здания моей детской школы.
Я поднялся очень высоко и летел омытый теплыми жесткими струями урагана, радуясь, что жизнь так далеко от меня. В течение двух часов в моем сознании не было ничего, кроме холодной выси неба, солнца и улыбки.
К вечеру я мчался над Танабези. Какое-то новое болезненное беспокойство возникло в моем сердце и город остался позади. Потом, усилием воли, я заставил себя вернуться; но прежде чем передвинуть диафрагму изолятора на падение, я снял черный жемчуг с рубином.
Рунут встретил меня в аллее магнолий у бассейна из яшмы и вьющихся роз и мои глаза едва не наполнились слезами. Мы говорили о последних работах Рунут и о значении моего открытия, о нашем прошлом и наших планах и, загораясь знакомым пламенем, я терял ощущение плоти от неведомого блаженства. И волна его достигла высочайшего взлета, когда рядом с нами очутилась Сэа. Рунут, чтобы не беспокоить меня, сказал обо мне только ей. Сэа была прекрасна, но то была другая красота, чем Гонгури и я понял, что стал больше чтить ее. Сильное тело, взгляд могущественный и нежный и над всем, словно невидимый ореол, целые тысячелетия страсти и грез. Можно было любить кого угодно и в то же время поклоняться Сэа, как стихии. Она говорила, что однажды пыталась увидеть меня, но генэрийцы, варвары, с ужасом заметили ей, что никого нельзя отвлекать от работы в лабораториях. Так мы болтали, любуясь, пока диск моего браслета не стал оранжевым — цвет восьмого часа. Сэа звала меня на великолепные игры, где будут все мои прежние друзья, но я мог только обещать ей вернуться на следующий день. Я долго следил за ней, когда она парила над нами и в моей душе были ясность и печаль.
— Завтра у вас опять торжество, --- проговорил Рунут, едва заметно усмехаясь.— Память Неатна!
Он остановился и продолжал с какой-то скрытой мыслью, стараясь повлиять на меня.
— Да, разумеется, Неатн — гений во всем, начиная с психологии и теории болезней и кончая его поэзией, но все-таки он чудовище, Риэль! Это самый мрачный из всех умов.
Я слушал рассеянно, но меня поразила одна странная подробность. Умирающий Неатн, близкий к той черте, где бесконечность гениальности переходит в бесконечность безумия, велел своему ученику Дею каким-то неведомым способом препарировать его мозг. Дей исполнил желание своего учителя и с тех пор мертвое вещество засияло с непонятной постоянной силой.
Внезапно я почему-то вспомнил Голубой Шар и ночные кошмары снова овладели мной с потрясающей силой.
— Ах,— заговорил я,— как бы мне хотелось явиться между ними и смести лучами смерти и тех и этих. и тех и этих! Черные, Белые, Коричневые, Желтые, — тысячи, миллионы шли для этого! Они умели говорить, но у них не было воображения. Я погружался в прошедшие века и в будущие,— все становилось расчетливее, но убийств совершалось больше. О как можно так быть! Как можно, когда все это здесь, рядом, как можно.
Я взглянул на Рунут и вздрогнул. Это действительно было безумие.
— У тебя опасный бред, Риэль,— услышал я слова, — и я хотел бы, чтобы ты остался со мной. Нельзя безнаказанно в несколько лет молодости совершать работу целой жизни. Если бы ты остался у нас, ты не прятал бы своих грез, мы все трудились бы вместе с тобой и человечество приобрело бы идеи твоих изобретений и твои открытия закономерно и безболезненно; но в Лоэ-Лэле с ее культами, празднествами, индивидуализмом и громадным гипнозом ты был только рабом страсти более сильной, чем твоя воля. Ты мог бы стать таким же счастливым, как Сэа и потом таким же, как я; а теперь разве ты счастлив?
Так говорил Рунут серьезно и нежно, и казалось, весь громадный светлоглазый Талла стоял за ним в своей лазоревой одежде. Ясные взоры были устремлены на меня и обличали ласково, как взоры ангелов тех, кто вернулся, но все же видели ад. Я не должен был смотреть на Землю, даже знать о таких преступлениях — грех.
В те минуты я был подавлен и безличен и потому соглашался с каждой сильной мыслью. Я обещал Рунут вернуться в Танабези или, по крайней мере, как можно чаще бывать у него.
— Только не теперь,— добавил я невольно. Я рассказал о Гонгури. Рунут немного успокоился, но вероятно его надежда исчезла в тумане подсознательных тревог так же мгновенно, как мое тело, брошенное слишком нервным движением в облака, озаренные пурпуром и киноварью заката.
Ждала ли меня Сэа, не знаю.
Может быть, я неверно передам впечатления этого вечера, потому что я был рассеян и мой дух витал в других сферах. Я вижу сквозь дым гениев Ороэ, собравшихся в огромном зале, фантастическом и прекрасном и мое бледное сияющее лицо, отраженное зеркалами, полулежащую Гонгури и ее голову на моем плече и легкие,как воздух ,светящиеся шары, бесшумно блуждавшие между нами. Невидимые автоматы приносили нам розы и фрукты и сок Аоа, опьяняющий и чудесный. Невидимая звучала музыка и вдруг все затихало под очарованием мерной речи.
— «Ах, что бы мне сделать, что сделать?» Юноша поэт, светлоглазый Акзас, влюбленный в Гонгури, подошел к нам улыбающийся, бледный и я услышал его напряженную декламацию, отрывок из той же старинной поэмы «Ад», которую я так часто вспоминал, смотря на Землю. Я не могу передать этих страшно сильных слов гения. Вот бледный намек.
--- Тогда настала тьма. Я ввержен был
В холодное бескрайнее пространство
И пустота рвала мне грудь и душу;
Осталось только тусклое страданье,
Такое скучное, что показалось
Миллионы долгих лет прошли, когда
Часы отметили одну секунду.
Я это знал, промолвил я с тоскою.
Туманные мрачные строки внезапно напомнили мне, что я еще никому не говорил о моем последнем самом великом открытии. Быстрым взором памяти я пробежал земные картины и опять мне показалось, что я прожил годы в ту изумительную ночь.
Акзас продолжал декламировать.
— Молчите,— сказал я непривычно резко,— что ваши стихи? Хотите, я покажу вам настоящий ад!
Мгновенно наступила тишина.
Тогда я рассказал о странном человечестве, найденном мною в голубом фосфоресцирующем шаре. Я не удержался и рассказал о многих земных видениях, за исключением слишком нестерпимо стыдных и, наконец, простирая руку к темному куполу неба, заговорил о самом поразительном — о возможности великого Риэля иного мира, созерцающего нас из непредставимых бездн. Те существа, быть может, настолько же превосходят нас, как мы карликов частицы Голубого Шара; может быть, они вовсе не зависят от стихий, может быть, их души непосредственно общаются друг с другом и они обладают нечеловеческой способностью познавать сущность вещей.
Я говорил, и те образы, какие я вызывал, действовали на высокие души так же, как они раньше действовали на меня, и только Везилет погрузился в совсем другие мысли.
— Прекрасно, Риэль! — сказал он наконец.— Я давно утверждал, что поток жизни более безграничен, чем мы думали, и теперь ты доказал это. С каждым взмахом маятника создаются, развиваются и умирают бесконечные бездны миров. Всегда и везде таинственный процесс жизни претворяет в себе низшие, обесцененные формы энергии, вечно сражаясь с холодным призраком энтропии, — с призраком безразличного, мертвого пространства, всемирной пустыни, где нет даже миражей лучшего будущего. И над всем главенствует мысль. Мы еще не знаем ее действительной силы, — может быть, она зажигает солнца! И вот Риэль открыл, что она вездесуща. О, как это прекрасно!
— Я обещал показать вам Ад,— сказал я, обращаясь к Акзасу.
Его губы с легким атавистическим пушком как у Марта сложились в улыбку. Я знал, что он не был из числа Ороэ и едва ли не принадлежал к ничтожной враждебной секте «Хранителей Тайн». Это меня волновало.
Гонгури, Везилет и еще несколько человек последовали за нами.
Мы летели над Звездной улицей. Была ночь. Какая ночь! Огненные потоки извивались по контурам зданий и весь город походил на застывший фейерверк. Грани вершин Дворца Мечты бросали чистейшие лучи фиолетовой части спектра, такие мощные в своих элементарных тонах, каких нигде никогда не бывает в мире. Сияющие корабли внезапно отделились от плоских крыш, поднимались, ускоряя полет, реяли и мелькали, как метеоры. И в то же время была тишина. Только низкий тембр огромной жизни и отдаленная музыка едва касались сознания и трудно было отличить, где кончалась музыка лучей и начиналась музыка струн. Мягкий влажный ветер наполнял грудь своим космическим блаженством. С другой стороны, над морем, ночь была одета в мистическое вечное небо. Звезды над океаном всегда особенно прекрасны. Некоторые из них были так ярки, что от них струились отражения, как от маяков. Огромная желтая звезда, помню, называлась «Неатн». И словно туманное предостережение, на северо-западе, где кончался Звездный Путь, едва-едва вырисовывался громадный темный массив морских скал, переходивших далее в горы, и там на самом конце каменного мыса волшебный силуэт дворца Лонуола. Он весь был покрыт светящимся веществом и горел ровным голубым светом, отражаясь в зыби океана, живой и воздушный, как сказочный дух. Гонгури держала меня за руку и тихонько импровизировала бессвязно и чудесно. Полет! В нем был странный нервоз наслаждения. В стране Талла были города с движущимися улицами, где люди могли вовсе не летать.
Везилет говорил мне что-то, но я не обращал внимания, пока его резкое странное восклицание не вывело меня из задумчивости.
— Мозг Неатна! Риэль, неужели ты не знал? Ах, ты родился в стране Талла!
Мы спустились в той самой комнате, где я начал свой день. С изменившимся лицом Везилет смотрел на статую мыслителя и на Голубой Шар, вырванный мной из ее руки.
Так вот о чем говорил Рунут!.
— Электроны света в его мозгу. мир. мозг. непонятно,— вдруг забормотал врач.
— Что с тобой, Митч? — смутился Гелий.
— Так, я вспоминаю свою фразу во время твоего сна.
— Ты хочешь сказать?
— Продолжай. Я заинтересовался этим странным отражением моей мысли: «Мир. мозг. непонятно», — Мир-мозг Неатна!
Гелий побледнел.
— Как раз в тот же момент,— заговорил он, — с ужасающей резкостью, я впервые проникся безмерностью вставшей предо мной загадки: может быть, ничего не было, может быть, сон?. Везилет в нескольких словах рассказал мне, каким образом светящийся шар очутился в руке каменного мыслителя, и, волнуемый совсем особенным любопытством, поднялся к окуляру моей машины. И вдруг остановился: и все внезапно замерли и умолкли.
В окне стоял человек, одетый в простую одежду черного или скорее темно-серого цвета, откуда еще резче выделялось его бледное невиданное лицо. Он помедлил несколько секунд, взглянул нам в глаза и его черты отразили спокойствие и рассеянность какого-то почти божеского всеведения. Это был Лонуол. Его движения были медленны и так страшно уверенны во всей их необычайности, словно не воля, а сверхъестественная необходимость двигала его тело. Он подошел к Голубому Шару, медленно поднял тонкую серебряную трость, раскаленную на конце током, и коснулся его поверхности. Изумительное вещество мгновенно вспыхнуло огромным розоватым пламенем и скоро от него остался только чад.
Когда я очнулся от гипноза, Лонуола уже не было. Некоторые части моей машины оказались испорченными и наблюдения стали невозможны. Мы стояли подавленные смущением. Только Акзас оставался странно безучастным. Он подошел ко мне и спросил заученным тоном: «Уверен ли ты, Риэль, что все, о чем ты рассказывал, не приснилось тебе прошлой ночью? Вспомни, — ты очень утомлен».
— Я думал об этом,— ответил я.
Везилет бросил на меня короткий тревожный взгляд и подошел к окну, где неподвижно стояла Гонгури, смотревшая на звезды. У меня кружилась голова. Впервые я не только мыслил, но воистину ощущал бесконечность. Может быть, также причиной головокружения был чад, оставшийся после сгорания шара; кроме того, меня мучило представление, что я вдохнул именно ту частицу газа, где находилась Земля.
Я неслышно вышел из комнаты, унося в себе какое-то смутное решение. «Я клялся жизнь свою отдать ради стремления к Истине», — звучало в моем горящем мозгу,— «так что же мне сделать, что сделать? Долго и тщетно старался воплотить волновавшие меня переживания. Потом внезапно я увидел свет, подобный мысли Архимеда, когда он воскликнул: «Эврика»!
— Разве есть понявший душу,— прошептал я.
— «Разве есть понявший душу!»
Я пошел быстрее и скоро очутился в моей любимой черной комнате. Ее стены образовывали восемь углов, причем наружная из них, с огромным окном, не была параллельна противоположной. В глубине со звоном падали светлые струйки воды и блики света и звуки тонули в мягких поверхностях черной материи. Мраморные статуи в нишах казались летящими в темноте и между ними качался, сияя золотом, диск маятника. «С каждым взмахом маятника возникают, развиваются и умирают бесконечные бездны миров», вспомнил я слова Везилета. В трех плоскостях: на потолке и на противоположных стенах, заключались три зеркала. Я заглянул в их призрачные пространства и увидел там себя — странно изменившийся образ, радостный, почти нечеловеческий. «С каждым взмахом маятника, думал я, жизнь осуществляет свое великое назначение и скоро я постигну его и постигну, что же я — Риэль в этой вечной смене существований. Я клялся жизнь свою отдать ради достижения истины и потому, подойдя к торжественно звучащим часам, достал из маленького ящика, вделанного в них, заветный пурпуровый яд.
— Риэль! — позвала меня Гонгури.
Я спрятал драгоценное вещество и пошел ей навстречу.
— Риэль,— говорила она с трогательной женской заботливостью,— ты нездоров, тебе надо принять лекарства и отдохнуть.
— Да, я очень устал, Гонгури, я хочу полного большого покоя,— сказал я.
Мы подошли к окну и я продолжал.
— Ты видишь, пред нами этот сад с темными силуэтами деревьев, дальше ты видишь горы и представляешь море и наш город и, наконец, более смутно, весь наш обширный мир с его великим человечеством, его гениями, любовью, красотой. Выше! Скоро Лоэ-Лэле превратится в неясное пятнышко, потом обрисуется громадный контур нашей планеты. Выше! Наш мир перестал существовать для нас; о нем осталось только странное воспоминание. Мелькают звездные системы, косматые туманности, остывшие солнца, и потом нас окружает безмерная пустота. Дальше! Звезды сближаются в поле нашего зрения и скоро вся видимая вселенная становится маленькой ограниченной кучкой яркой пыли. В отдалении появляются другая, третья, множество таких же звездных скоплений. Мелькают миры, исчезают в перспективе, словно разнообразные предметы, когда быстро летишь невысоко над землей и смотришь назад. Дальше! Звезды наполняют видимое пространство, оно начинает казаться более плотным и, наконец, превращается в маленький шар, излучающий бледно-голубой свет. На мгновение мы теряем сознание и потом вспоминаем, что мы здесь, в Лоэ-Лэле. Ничто не изменилось. Пред нами тот же сад, полный цветов, вдали горы, где-то должно быть море, дальше — город и весь остальной, неподвижный громадный мир. А вверху небосвод, полный прекрасных неподвижных звезд,— тоже неподвижных для нас. Я устал, Гонгури, от этой подавляющей бесконечности, от бесконечности возможностей, от невозможности бесконечности постижения.
Я замолчал. Тогда заговорила Гонгури. И она медленно перебирала мои волосы, словно хотела заставить незаметно уснуть и потом очнуться сильным юношей, забывшим странные мысли и порывы. Она говорила, что она начинает ненавидеть образы, какие занимали мое воображение, так как они отнимают меня у нее.
— Ах, Риэль! — звучала тревожная речь Гонгури, — логика нашего разума часто уступает другому источнику познания. Я верю, я знаю, что мир прежде всего прекрасен, чарующе прекрасен! Риэль, милый Риэль, поверь мне, что твоя ужасная планетка только сон, только кошмар.
— Да, — прошептал я.
— Забудь о нем, пока ты болен. Утром мы полетим с тобой вместе на поля, где растут лилии долин, и в рощи Аоа. Мы будем смотреть на радугу в брызгах водопада и ловить колибри, не боящихся людей; потом мы поднимемся выше изменчивых облаков и быстрый полет среди чистых просторов, океан и солнце, рассеют в тебе беспокойные миражи души. Природа прекрасна, Риэль, — жизнь прекрасна, Риэль!
Она умолкла, чтобы поцеловать меня.
--- Жизнь прекрасна,— повторил я, думая о другом.
Забываясь в ярких эдемах, мы сидели, обнявшись, на пушистой шкуре черного зверя. Иногда я начинал дрожать от странного волнения и это беспокоило Гонгури.
— Пустяки,— сказал я, — то лишь влияние бессонной ночи и усталости; сейчас я приму успокаивающего лекарства и все пройдет.
Тогда я вынул частицу пурпурового вещества и проглотил ее. Потом я выпил воды и действительно совсем успокоился.
Мы говорили о красоте и величии жизни, о любви и цветах, растущих на великолепных склонах гор.
Без всякого страха, как настоящий сын Ороэ, я созерцал в себе влияние яда. Я ощущал, как постепенно безболезненно умирает мое тело и, заботясь, уносился в сияющие выси. Скоро Гонгури заметила неестественный цвет моего лица и замедленное биение моего сердца. Она быстро осветила комнату и, взглянув мне в лицо, поняла все.
Для меня переставало время.
В дверях появился Везилет и спросил: что случилось, Гонгури? — какая-то тревожная мысль, соединенная с твоим образом, проникла в мое сознание и я подумал, не произошло ли несчастья?
— Он уходит от нас,— ответила Гонгури. Везилет быстро подошел ко мне.
— Одно слово, Риэль,— начал он.
— Разве есть понявший душу,— возразил я, зная, что мой аргумент неотразим.
Везилет замолчал и потом тихо спросил, когда я принял яд.
— Около часу тому назад,— ответил кто-то — я или Гонгури.
— Слишком поздно!.
Гонгури не отходила от меня и по ее щекам спадали слезы, когда она слушала мой бред о царстве кристального духа. Комната беззвучно наполнялась людьми. У них были поникшие головы и, помню, я старался утешить их, не понимая их скорби.
Я закрыл глаза и лежал неподвижно.
Вдруг я услышал голос Ноллы и других светлых духов.
— Риэль, бедный Риэль,— говорила она, мы не можем тебя взять с собой, потому что ты убил себя.
Внезапное смущение заставило меня в последний раз полураскрыть глаза. Гонгури плакала.
— Риэль, бедный Риэль,— едва слышно повторял Везилет,— он не знает, что самоубийство не может раскрыть ни одной тайны.
Вдруг мне показалось, что это не Везилет, а Лонуол.
Я пытался ответить ему, но не мог, и стремительно погружался в странное состояние сознательного небытия, полного мерцающего света и шума. Так длилось вероятно очень много времени, пока наконец я не вернулся сюда, где я теперь, Гелий-Риэль, в непрестанном страдании должен вернуть потерянное величие моего духа.
VII.
Гелий замолчал, но вызванные им образы продолжали заполнять сознание обоих пленников. Черные от грязи стены одиночки превратились в черный бархат дворца Риэля, и Гонгури все еще плакала над его трупом. Везилет развивал цикл идей, навеянных смертью, светлую веру Генэри, почти знания, покоившегося на исследованиях высочайших форм энергии: Сознания, Мысли, Я. Каждая жизнь борется со Смертью, дух человека возносит эту борьбу до крайних пределов и, достигая высшего возможного в нем совершенства, воистину создает и становится частью этого Несказанного Центра, что на бедном земном языке может именоваться только Божеством. Поэтому насильно разрушающий жизнь не находит желанного Света, а погружается в забвение нового существования, повторяя его борьбу, страдания, страсти.
Гелий сидел откинувшись к полосе лунного сияния. Наконец он глубоко вздохнул, как будто все еще не освободился от гипноза и сказал, поднимаясь:
— Чудовищно!
Он взглянул кругом на камень и железо и продолжал.
— Чудовищно: я прожил целую жизнь в эту ночь! Что же это было, доктор? Что это, сон или жизнь? Где кончается жизнь и начинается сон?.
В ответ снова наступило молчание. Врач был потрясен случившимся. Этот быстрый рассказ, полный самых невероятных представлений, казавшихся такими возможными в спокойной глубине мысли Гелия, еще полнее раскрыл пред ним его любимую фантастическую душу. В других условиях она могла бы расцвесть новыми волшебными огнями творчества, а здесь всем этим огромным образам грозила гибель. Его тревога возросла до бреда. Он едва сдерживался.
— Да, заговорил он наконец, докуривая последний табак, — конечно, это сон, потому что все это — твоя душа, Гелий. Душа, которая все время жила в грезах и все время соприкасалась с чудовищным миром. Едва она сосредоточивалась на видениях лучезарной жизни Страны Гонгури, как вдруг ее окружал хаос снегов и дебрей Паона, Санона, Саян. Человек высшей расы в шалаше среди дикарей и вьюги — это олицетворение нашей судьбы. Лишь только тебе удавалось остановиться над творческой работой, в Лоэ-Лэле или в Сан-Франциско, как вдруг внешняя сила снова низвергала тебя с высот мысли в пропасть жестоких войн и нечеловеческих походов. Все это ты, во всем твоем рассказе я вижу только тебя. И т. к. ты спал под влиянием внушения, то я невольно влиял на тебя, мое бормотанье вызывало в тебе мои мысли; так, ты дословно повторил слова, произнесенные мною: «Разве есть понявший душу?».
— Не может быть! — прошептал Гелий.
--- Нет, это правда.
Гелий взял его за руку.
— Митч,— сказал он,— усыпи меня еще раз. и прикажи запомнить все, все. О, как живо это впечатление реальности, эти горе, любовь и радость, это желание сделать какое-то маленькое усилие, пролететь ничтожное пространство и увидеть пред собой Гонгури. или ждать: она придет и пропадут сомнения, исчезнет боль. Митч, я не могу, я хочу знать!
— Да, мой милый друг, только не сейчас. Мы выйдем на волю и если победят наши, то. а если нет, мы вернемся на берег Тихого океана; я буду добывать средства практикой, а ты будешь воплощать свои грезы.
— Пустые грезы, Митч! Нет, не надо грезить. Вокруг нас мчится победоносная жизнь. Пальмы качают листьями на коралловых рифах, теплые волны шелестят галькой, моя девочка потягивается от наслаждения, когда ее распеленают, студенты устраивают прогулки за город и у каждого из них есть своя лучшая из всех девушек. А Гелий-Риэль сидит в клетке и у него нет сотой доли той силы, чтобы ее разрушить!. Нет, Митч, довольно. Я готов. И я не боюсь смерти. Один раз я уже умирал молодым.
Гелий осторожно подошел к окну. Поздняя луна всплыла из-за соседнего корпуса, как будто вздрогнула, взглянув в его глаза, и потом медленно поплыла к горизонту, побледнела и задумалась, как лицо Лонуола.
Он вернулся и лег на нары. Врач по-прежнему неподвижно сидел напротив, глядя в пространство. Через некоторое время Гелий невольно погрузился в забвение. И ему снился громадный глаз, смотревший на него из непредставимых бездн. Он проснулся с безумно бьющимся сердцем. Прямо в его лицо, как сверхъестественный глаз, смотрело желтое солнце. Комната была полна людьми. Впереди стоял молодой чешский офицер, белобрысый, розовый и свежий. Около самых дверей нерешительно мялся седой, бритый, жирный джентельмен в круглых очках с черепаховой оправой, одетый в однотонное хаки. В нем без труда можно было узнать современную разновидность миссионера и филантропа. Комендант скомандовал встать. Никто не шевельнулся. Чех скверно выругался.
— Это большевики? — вполголоса спросил американец у своего переводчика и вдруг получил быстрый насмешливый ответ на родном языке от грязного молодого арестанта, продолжавшего лежать на нарах:
--- Да, они самые, Sir, "Маdе in Russiа".
Последовал стереотипный удивленный вопрос:
— Где вы учились по-английски?
Гелий приподнялся. Его лицо потемнело.
— В гаванях, в кабаках, на море, мистер, всюду, от наших братьев, которые когда-нибудь свернут шею.
Гелий внезапно замолчал, взглянул на врача. Он сидел на прежнем месте, по-видимому, он не двигался всю ночь и, ухватившись руками за доски нар, напряженно всматривался в лицо американца.
— Так, так,— пробормотал тот.
— М-р Мередит! — воскликнул врач вставая. Американец застыл от изумления. Он снял очки,протер шелковым платком цвета хаки круглые стекла и надел снова. Ему обещали показать настоящих большевиков, самых отъявленных из преступников. и, вдруг, его называют по имени! Это было хуже землетрясения.
— М-р Мередит,— продолжал врач,— вы меня не узнаете? Вспомните, когда-то мне пришлось спасти вам жизнь.
— М-р Митчель! — в свою очередь произнес американец сдавленным голосом.
Он не знал, что ему делать, но все же протянул руку.
— Как вы сюда попали, во имя Бога?
— За свои убеждения, разумеется. М-р Мередит, я знаю, что вы близки к господину генеральному консулу, у меня есть к вам единственная просьба.
— Да, да, конечно,— оживился американец,— я похлопочу за вас.
— Нет, вы меня не поняли; мне не угрожает никакой опасности, я говорю о нем.— Врач показал на Гелия.— Вместе с другими тридцатью шестью он приговорен к смерти больше месяца тому назад. Приговор до сих пор не приведен в исполнение, потому что военная клика еще трусит, но они выжидают случая и они беспощадны. М-р Мередит, помните, во время европейской войны, мы встречались в нашем клубе на заседаниях, посвященных вопросу спасения хотя бы лучших из безмерных жертв Мира. Мы говорили, что все гении, все таланты должны быть поставлены в условия, обеспечивающие им независимость от какого угодно государства. Этот молодой человек — поэт, Мередит, настоящий поэт, поверьте мне. Я говорил с Вами о нем. Это тот самый, который жил со мной в Штатах. Помните, когда получили первые известия о бомбардировке Реймского собора, какой был вой! Но Реймский собор не разрушен. и, если бы даже он был разрушен, его можно было бы восстановить в несколько лет. Только убив самого художника, мы навсегда убьем его творчество. Храм, разрушенный варварами, все еще живет в душе порабощенного народа, храм, разрушенный в душе художника,— погиб навеки. Мне говорили, вы написали негодующую статью по поводу разрушения красной гвардией памятников искусства в усадьбах русских бар. М-р Мередит! Вы пользуетесь влиянием, как представитель той Антанты, на содержании которой находятся все эти чешские проститутки. Вы должны спасти поэта, если вы не лицемер и не дикарь. Иначе вы и вся ваша самодовольная Америка, все, все,— только толстокожие скоты.
Врач замолчал от приступа мучительного кашля. Гелий подошел к нему.
— Зачем все это, Митч?
— Я повторяю твои мысли, Гелий.
Мередит растерянно бормотал свое: «Yеа, Yеа»!
— Скажите ему,— обратился он к переводчику, кивая в сторону коменданта,— что они оба американские граждане, чтобы с ними обращались хорошо и т. д. и что я лично буду говорить со штабом.
Чех не понимал по-английски, но сразу оценил опасность. Допустить, чтобы ускользнул Гелий, о котором в официальном обвинительном материале значилось, что он расстреливал белых офицеров, было, конечно, немыслимо. Он решил действовать на свой риск. «Можно подать рапорт», мгновенно соображал он, «что такой-то. во время попытки к бегству. а на самом деле просто отправить в. земельный комитет». Он улыбнулся своей изобретательности, взял под козырек и доложил самым естественным тоном.
— Только что получено распоряжение перевести их на заимку для исправляющихся около Монастыря. Я постараюсь сделать это сегодня же. Там воздух, прекрасный вид, здоровый труд. Вы можете быть спокойны за ваших друзей.
И круто повернувшись, он быстро вышел из камеры. Американец соображал, следует ли ему проститься, но увлеченный конвоем, очутился в коридоре и махнул рукой. От дальнейшего обхода он отказался.
Через пять минут чех вернулся в камеру озабоченный и сияющий от нервного подъема.
— Собирайся! — сказал он Гелию.
— Вы видите, что я готов,— спокойно ответил юноша.
— Куда? — спросил врач.
— На «заимку».
Гелий подошел к своему другу и поцеловал его.
— Прощай, старина!
— Прощай? Нет, я иду с тобой.
— Ну,— засмеялся чех,— ты в другой раз.
Гелий взглянул на бледное дорогое лицо и, чтобы не длить безобразной сцены, большими шагами направился к выходу.
— Я с тобой, я с тобой!
Надзиратель легко отмахнулся от старого арестанта и захлопнул дверь.
Он остался один, прильнув на коленях к запертой двери, измученный, тревожный, безумный, посылая проклятья и угрозы в мертвую каменную пустоту.
Гелий, вместе с небольшим конвоем, вышел из ограды тюрьмы. Они быстро прошли пыльный город, пересекли линию железной дороги и пригороды и стали подниматься по направлению к Сопке. Сначала дорога шла среди свежего березняка, выше началось краснолесье и Гелий с наслаждением вдыхал теплый невидимый фимиам смолы. Шли долго, но он не испытывал усталости. Он шел впереди, забывая о карауливших его солдатах и, казалось, не они вели его, а он увлекал своих палачей к неведомому зениту.
Это было такое же сияющее утро, как в Лоэ-Лэле, когда он шел рука об руку с Гонгури в храм Сторы. И он испытывал такое же лучезарное ощущение бесплотности от бессонной ночи и возбуждения. Внизу, сквозь зеленые горы, стремился голубой, сказочный Енисей. Рядом вздымались кедры, а внизу, между красных скал, росли неисчислимые ирисы, сарана и красные гроздья незнакомых цветов, называющихся в Сибири ландышами.
В красном бору, у Красного Яра, красные ландыши!
Упоительный горный ветер стремился в его поднятое ввысь лицо нежным потоком.
Как сквозь сон, он почувствовал, что шедшие сзади остановились, осторожно защелкали затворами и зашептались быстрым чешским говором.
Он продолжал идти вперед не оглядываясь, подняв голову, улыбаясь навстречу ветру, небу и солнцу.
Он ликовал.
Он возвращался в Страну Гонгури.
Канск, 1922 г.
Примечания
¹ фата-моргана -- причудливый мираж.
² семилетний сон Магомета – сон, во время которого Мухаммеду, основателю ислама, явились откровения свыше.
³ Момзен -- Теодор Моммзен (1817-1903) -- немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права, лауреат Нобелевской премии 1902 года.
⁴Ганнибал сын Гамилькара -- Ганнибал, Аннибал Барка (247-183 до н. э.) -- полководец и государственный деятель Древнего Карфагена; Гамилькар Барка (? -- 229 до н. э.) -- карфагенский полководец и политический деятель.
⁵Нумидийцы -- жители древнего царства в восточной части современного Алжира (3 в. до н. э.).
⁶YMCA -- The Young Men's Christian Association (Христианская Ассоциация Молодежи),интернациональное движение, основанное в 1844 г. в Лондоне Джорджем Уильямсом «для достижения здорового духа, разума и тела путем внедрения христианских принципов».
⁷Фаренгейт Габриэль Даниэль (1686-1736) -- немецкий физик, предложивший шкалу измерения температуры из 180 градусов. Согласно этой шкале, вода тает при 32°Ф и кипит при 212°Ф.
⁸Лондон -- всемирно известный американский писатель Джон Гриффит (1876-1916), публиковавшийся под псевдонимом Джек Лондон.
⁹радий - радиоактивный элемент II группы Периодической системы Д. И. Менделеева, открыт в 1898 году. Явление радиоактивности обнаружил А. Беккерель в 1896 году.
¹⁰атавистический – обладающий признаками, свойственными отдалённым предкам.
¹¹ телеология -- философское учение, приписывающее процессам и явлениям природы цели (целесообразность), которые устанавливаются Богом или природой.
¹² атлантозавр – один из крупных динозавров второй половины мезозойской эры (другие названия – апатозавр, бронтозавр).13
Бернулли.-- швейцарские ученые-математики Бернулли: Якоб, Иоганн, Даниил, жившие в XVII-XVIII вв., авторы известных схем, теорем, уравнений, чисел Бернулли.
¹⁴ энтропия -- мера беспорядка, хаотичности системы; мера рассеивания энергии.
¹⁵эриннии -- в греческой мифологии богини возмездия.
¹⁶фосфены -- зрительные ощущения в виде цветовых пятен, возникающие без непосредственного воздействия света на глаз человека.
У Р А М Б О
1. Пулеметы
Мистер Грэди давно вышел из того возраста, когда путешествия кажутся романтическими. Напротив, поддавшись некоторой меланхолии, он думал, что приходится все чаще разъезжать по разным неблагоустроенным странам, Счастье же: семья, два бэби, иногда молоденькая Бетси, морские купания, собственный авто, хорошее пищеварение. А здесь? Только на пароходе могут кормить свининой под экватором…И еще этот лопоухий дьявол-дьявол, -- вот опять бесится.
-- Бой!
Под черный форштевень, звонко шипя, подлетает синь. В бездонном струящемся стекле влаги вдруг мелькнет пузырек медузы, выпрыгнет дельфин. Кровь, как океан внизу, шумно кипит. Солнце.
Негр прислушался, сплюнул табачную жвачку, скатился вниз.
М-р Грэди – его хозяин, англичанин из Ливерпуля. М-р Грэди был озабочен. Новые поиски марганца на юге – ошибка. Германская компания «Людвиг Кра и Шульце» захватила огромные кавказские залежи. Самые удивительные дураки, конечно, русские.
Приходилось не пренебрегать мелочами. Правда, это была дружеская услуга; но все-таки, передвижной зверинец Исаака Кини – солидное предприятие. М-р Грэди встал с шезлонга и, рисуясь перед воображаемой Бетси своими неисчислимыми заботами, направился к лестнице.
М-р Грэди погрузил слона в Луанде. Это был редкий экземпляр по его словам. Слона м-р Грэди назвал Урамбо. Так, в высочайших градусах Фаренгейта, в голубом дыме кэпстэна мелькнуло название неведомого местечка экваториальной Африки. Урамбо был огромен и дик. Черный проводник попросил прибавки, -- даже виски не помогало, за водворение его в трюм.
Пряный запах колониальной снеди странно возбуждал. Среди огромных мягких тюков прохладнее, но душно. В конце – деревянная перекрещенная решетка. Слон сжал хоботом один из столбов, стараясь притянуть его к своим бивням. Задняя нога зверя прикована якорной цепью. Желтовато-белыми клыками не достать. Эластичный хобот был бессилен. Негр ударил по нему палкой. Урамбо отступил вглубь, гневно затрубил, поднял голову.
Когда-нибудь он в самом деле разнесет клетку, eh?
Рядом стоял м-р Грэди. Мистер Грэди курил кэпстэн.
Давай ему меньше есть, бой. Из него слишком прет. Совсем не давай есть.
Сказав это, м-р Грэди спокойно пошел наверх.
Океан, как стекло. Колокол позвал ужинать. М-р Грэди размок, остался на палубе, тянул через соломинку ледяную смесь. Солнце по самому большому кругу неба бухнулось за горизонт. Агент знаменитой германской фирмы невольно снова удивился необычайной скорости бесшумного шествия тропической ночи. Он узнал, что м-р Грэди направляется в Петербург по марганцевым делам и, взглянув на стремительное солнце, за бутылкой сода-виски, вполне конфиденциально, предложил ему устроить в России партию бракованных пулеметов.
Превосходные пулеметы! – уверял агент. – Брак совершенно неразличим и относится лишь к самому качеству материала. Вам, как представителю незаинтересованной державы, будет очень удобно… тем более…
Агент наклонился к уху м-ра Грэди.
М-р Грэди официально миролюбив. Он тянет недоверчиво:
-- Оу!
Есть признаки, есть признаки…
-- А не придется ли и нам ввязаться в дела на континенте?
Немец закурил крепчайшую черную сигару, проглотил густой комок дыма. Небрежно уставился на лакированный ботинок.
-- Вы осторожный и практический народ. Вы поймете, что мы, -- совершенно беспристрастно,-- непобедимы. У нас Кант, у нас…
-- Ну, что касается имен…
-- Впрочем, быстро повернулся агент, -- я надеюсь, вы человек деловой. В ваших правилах использовать случай?
М-р Грэди, внезапно, также холоден и внимателен.
-- Да, это к делу, разумеется, не относится… Итак, каким образом вы предлагаете реализовать ваши машины?
В зените сиял Сириус. Небо на горизонте походило на светящийся экран титанической лаборатории. Гигантский палец зодиакального света оставил на нем тающий след. И волшебной фосфорической лентой горел океан, вспененный винтами парохода.
-- Человек, коктейль!
--All right .
--А кто эта… мисс, -- eh?
--------------------------------------
Тогда, вместо черных экваториальных ночей, подавляюще внезапных, на шестидесятой параллели совсем исчезла ночь. Над Петербургом трепетали светлые бирюзовые газы. Беспощадный город, тупой, тяжелый и гениальный, вдруг превратился в легчайшую феерию. Значит можно мечтать о несбыточном.
В бессолнечном свете, против призрачных масс крепости и дворца, первокурсник Шеломин нанял у сонного чухонца быстрый ялик. Медленно колебались и падали воды Невы. Посредине реки Шеломин бросил весла. Была полночь. Было светло.
В этот день Шеломин сдал свой последний экзамен. В его сознании светились фиолетовые пучки круксовых трубок, мчались непредставимые электроны, вспыхивал сернистый цинк. Он мечтал о славных открытиях, которые он сделает. Тогда мир становился неожиданно другим, легким и счастливым. И в этот мир, конечно, входила Надя Никольская. Шеломину было 19 лет.
Улицы изнывали людьми. На обратном пути за ним долго шла женщина и, казалось, какой-то настойчивой страстью звучали ее заученные формулы…
«Хорошенький, пойдем со мной!
Мужчина, пойдем спать.»
Дома его ждал Петя Правдин, только что кончивший гимназист, сиявший улыбками и новеньким студенческим мундиром. Правдин объявил, что завтра будет пикник на Канонерском острове. Сборный пункт – у курсисточек Оли-Тони. Придет Надя.
Правдин остался ночевать. Правдин кипятил чай над керосиновой лампой. Ламповое стекло походило на трубку Крукса, а желтый огонь на волосы Нади, освещенные солнцем. Он видел городской сад, каток, лодку ночью на быстрой реке, всю их длинную любовь, их обещания и грезы. Как освободить энергию электронов? Чтобы завоевать, надо работать. Он положил палец в щель приоткрытого ящика стола и задвинул ящик.
Палец болел, распух, но Шеломин не мог заниматься. Его глаза были серы и упорны, а губы изогнуты, как обыкновенный лук амура. Ему хотелось победы сейчас, немедленно! Сейчас, немедленно хотелось совсем других стен, чем у его каморки с деревянной кроватью и одним столом.
И также мучаясь, странно входя в его маленькую судьбу, безумея от ночного сияния Финского залива, плыл Урамбо.
Земля, рождающая жизнь, отогревала свой северный бок. Слоновьи стада вытаптывали тропические поляны. В новой клетке Урамбо, на русском пароходе, сумерки белых ночей. Темная безвыходная страсть скапливалась, жгла титаническое тело, как отрава, брошенная бешеной собаке; но гипноз однообразия, кто-то беспощадный и хитрый, давил, сковывал сердце, заставлял каждый мускул двигаться медленно, послушно.
Властелин сидел за письменным столом в пижаме, в огромных очках с круглой черепаховой оправой. В эту последнюю ночь пути на море он вновь просматривал свои бумаги, отщелкивая фунты и шиллинги на маленьких счетах из слоновой кости. Лицо его, обыкновенно добродушное, круглое, вызывавшее улыбку, теперь было серьезно и вдохновенно. Теперь он был частью силы, правящей миром. Теперь он мог вызвать уважение, преданность или ненависть.
Около трех утра м-р Грэди сказал: «All right» и захлопнул записную книжку. Он с удовольствием зевнул и пошел спать, прополоскав рот и горло патентованной жидкостью, уничтожающей дурной запах во рту.
2. Коперник.
Шарманщик крутил в колодце проходного двора свой несложный громкий репертуар. Шеломин, назначенный кассиром, дал ему целый полтинник и студенты, построившись, двинулись с маршем – «Тоска по родине» впереди.
Бывший классный наставник Пети Правдина в ужасе соскочил с тротуара. Петя Правдин трепетал. Это была революция. Верх у шарманки ситцевый, красный.
Вдруг марш взвизгнул, оборвался, квадратный кумач помчался назад, в панике разбивая ряды. С фронта величественно подходил фараон. Революция кончилась.
Этика Пети Правдина, лишенного классного наставника, получила более солидную поддержку.
Впрочем, фараон был занят и, зажав рубль, великодушно разрешил шарманщику удирать. Посреди улицы стоял катафалк, окруженный толпой. Черный рабочий кричал белому факельщику.
-- Сукин сын, раз сказано бастовать, какое право имеешь работать! Дамы в трауре взвизгивали в ответ на брань.
Гигантские трубы, как недокуренные папироски в пепельнице северного неба, выбрасывали последний дымок. На Петербургском горизонте застыла виселица подъемного крана. Близорукий и тонкий, в черной куртке и черной косоворотке, политехник Рубанов, обвел рукой видимый сектор, весь огромный мир и проговорил, волнуясь.
-- Das Kapital!…
Розоватый, беловолосый Петя Правдин не понял и, взглянув на фабричные строения, подтвердил:
-- Да-с, капитал!
--------------------------------
Финский залив – море не море. Ультрамарина в нем нет. Озеро стальное, стальными струйками бьется в угловатые камни берега. Но для курсисточек с Бестужевских, медицинских, зубоврачебных, первый год из проклятых своих городишек, это «Какой простор!»
Пикник проходил по установленному ритуалу: чай с домашними произведениями Оли-Тони, пиво, кое для кого водка и студенческие песни.
К берегу причалил восьмивесельный щегольский ялик с французскими моряками, русскими женщинами и одним в штатском, с большой лохматой седеющей головой, который потом называл себя журналистом, поэтом и писателем. Его настоящая фамилия была Рабинович; но, подписываясь, он переводил ее: «Чивони Бар»,-- это звучало по-итальянски. Французы вытащили стол, складные стулья. На стол – белую скатерть, вино, печенье, банки.
Водка действовала быстрее французских вин и аперитивов, через полчаса студенты воодушевленно орали:
«Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье, --
Дурак! Зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья…»
Писатель подошел и приветствовал от имени союзников «надежду России, учащуюся молодежь»…
Через минуту Петя Правдин, пьяный и счастливый своей независимостью от классного наставника, объяснял французу.
-- Коперник, vous comprenez?* Дурак!
Офицер беспомощно оглядывался и повторял:
-- Почему вы не привели своих дам?
-- Дурак! – стукнул себя по лбу Правдин. – Voila, ром-буль-буль-буль и лемонд, отур, никаких сомнений…
---------------------------------------
* вы понимаете? (фр.)
Вдруг он поперхнулся.
-- Шутки в сторону, я напился до чертиков. Раньше не верил, а вот напился…
Правдин заморгал, протер глаза. Нет! – опять: прямо на него мчалась фантастическая огромная глыба, черная, чугунная живая буря! Визжали женщины, бежали задирая юбки в воду, черпая туфельками ил; лопотали французы. Писатель растерянно вынул записную книжку… Ррр-ах! Французский буфет перевернулся, зазвенел, чудовище исчезло, а дальше, чудилось, неистово скакал негр, размахивая руками, потом – с десяток свистящих фараонов и долговязый человек в белых брюках, крахмальном воротничке, круглых очках и без пиджака.
Петя Правдин подполз к берегу, мочил голову и бормотал, стуча зубами:
-- Вот напились до-чертиков, вот напились…
Шеломин не пил. Надя, «как нарочно», все время болтала с этим пустышкой, Александровым. Шеломин не думал, что везде в мире – в джунглях, трущобах и дворцах, каждая самка дразнит своего самца. Он стоял на крайнем плоском камне у
воды и смотрел, не видя, на сплюснутый оранжевый диск. Ему хотелось сильнее, сильнее, до крайнего предела расширить грудь, сжать рукой сердце, поднять высоко, чтобы всюду разбрызгалась его сладкая боль. Надо было действия, безумия, борьбы – сейчас, немедленно!.
Урамбо был беспокойно неподвижен. Когда горизонт залива закрыл солнце, вокруг затолпились, закричали люди. Прыгали по крыше его клетки. И, вдруг, расступились, -- страшная сила рванула и понесла его, раскачивая, вверх, на сумеречный свет. Урамбо стоял неподвижно. Только его маленькие глаза краснели и внимательно вглядывались за решетку. До сих пор там, за ее железными крестами, были одни и те же мертвые груды грузов, змеиные клубки канатов и тьма И, внезапно, мелькнула зеленая земля, -- сияющая лента воды, голубое небо. Урамбо вспомнил. Его великая мука, застывшая, как вал на мертвой точке, вдруг сдвинулась, стала горячей, тяжелое тело легким. Урамбо шагнул вперед, цепь натянулась… так один раз он запнулся за цепкую лиану в дебрях. Слон поднялся, положил гигантские передние ступни на решетку и, уже совсем радостно, в захлестывающем порыве, бросился вперед. Клетка разлетелась без боли. Урамбо осторожно отбросил подвернувшегося грузчика с бочонком сельдей и, подобрав хобот, помчался навстречу влажному ветру…
Шеломину, как Урамбо, хотелось бега, задыхания, освобождения. Он любил охоту, любил часами бежать за слабеющим лосем, любил шум бешеной крови, возбуждение, делающее неутомимым тело. Поэтому, не подумав ни секунды, он первый бросился за Урамбо по огромным следам.
3. Круглый глаз.
В рабочих районах были крупные демонстрации. Улицы чернели толпами. Их лозунги были скромны; но на перекрестках бледные люди с большими подозрительными бородами в своих несложных речах говорили сразу и о заработке и о Николашке, Распутине, жуликах-министрах. Все это, конечно, было давно всем известно. Об этом народ пел в песнях. Но теперь праздная толпа, вдруг освобожденная от будничной каторги, ясно и резко, не выговаривая слов, думала каким-то общим, большим мозгом: как же могут они, такие сильные и бесчисленные, терпеть, гибнуть, -- из-за кого?
Полиция была вооружена винтовками.
Околоточный Петухин, преследовавший со своим отрядом Урамбо, бывший кадровый офицер, любил воображать себя героем. Он размечтался о будущем своем рапорте, где дипломатично, но ясно, будет отмечено его исключительное влияние на благоприятный исход бунта, Ведь, если бы слон перебрался через узкие каналы, какой бы это был превосходный повод для сборищ!
М-р Грэди метался в толпе и взывал.
-- Есть здесь кто-нибудь, кто говорит по-английски?!
Надя, весь год учившая First Book*, нерешительно подошла к нему.
-- Скажите им, -- закричал англичанин,-- чтобы они не стреляли!
Скажите, что он стоит две тысячи, три тысячи! Скажите, что я послал уже за веревкой.
Урамбо вошел в воду, остановился, обливаясь из хобота. Надя перевела, что м-р Грэди послал за веревкой. Петухин едва взгляул на нее, -- все казались ему забастовщиками, и выстрелил. Слон повернулся, странно закричал, кинулся вперед.
Фараоны не целясь, стреляли в гигантское туловище.
Урамбо осел на задние ноги, поднял голову, озаренную темным нимбом громадных ушей, запрокинул, как призывную трубу, хобот. Его глаза отразили нечеловеческую тоску. Маленький кровавый рот вдруг стал жалобным, детским. Жизнь, выходившая вместе с кровью, излучала, погибая, страшное горе. Шеломин почувствовал влагу на своих глазах. Он выхватил у растерявшегося солдата винтовку, подождал секунду, когда слон качнул голову, и выстрелил между глаз…
Шеломин подошел к трупу. Иногда бывает безразлично, кто убит. Смерть. Круглый глаз. Круглый глаз был раскрыт. Сначала, когда длилась агония, он отражал боль. гнев и смертельное горе; потом застыл, стал неподвижным и мудрым. Шеломину хотелось войти в этот беспредельно спокойный печальный взор, пропасть в нем, исчезнуть…
Кто-то дернул его за руку. Перед ним стоял Рабинович. Его волосы походили на уши Урамбо, глаза сверкали.
-- Как ваше имя? – гневно закричал он, касаясь карандашом своей записной книжки.
-- Анатолий Шеломин…
Ответил машинально. Круглый глаз плыл по грязному черному сюртуку, окруженный желтыми фосфенами.
--Какого факультета?
-- Физико-математического… но…
-- Вы мне ответите за это убийство, пигмей! – забрызгался писатель и побежал прочь.
-- Зачем ты стрелял? Разве ты полицейский? – подскочила Надя.
Шеломин вдруг побледнел. Давно, в детстве, он застрелил Надину кошку и мучился, как преступник. Теперь, внезапно, появилось совершенно то же переживание.
--Но, ведь, они не умели стрелять! – попробовал он защищаться.
-- Разве ты полицейский?
------------------------------------
* Первую Книгу (англ.)
… М-р Грэди направился к своей неожиданной переводчице. Это была красивая девушка. – заметил он –- высокая, с белокурыми косами, положенными коронкой, яркими губами.
Англичанин извинился за свой костюм. Негр принес ему пиджак и шляпу.
-- Я много слышал о русских женщинах, -- сказал м-р Грэди.
Надя готова была расплакаться.
-- Что мы скажем теперь иностранцу?!
-- Скажи, что мне очень, очень жаль слона ! – воскликнул Шеломин.
-- Пустяки, сказал м-р Грэди.
Его точный мозг мгновенно отметил, что, согласно пункта четвертого, заключенного с передвижным зверинцем условия, он был обязан доставить слона в Петербург, т.е. в гавань. Остальное его не касается. Поэтому зверинец должен заплатить ему. В сущности, это даже к лучшему: меньше хлопот. Что-же касается Кини, то он, конечно, сумеет устроиться с полицией…
Подошел катер. На набережной м-р Грэди взял автомобиль.
-- Я буду очень признателен, если Вы будете моим переводчиком на этот вечер.
-- О, я знаю только несколько слов, -- ответила Надя, наполняясь гордостью.
Она первый раз в жизни могла поехать в автомобиле. Отказаться было невозможно.
-- Толечка, купите мне билет на поезд, сказала она. – Мы ведь вместе едем?
Шеломин расцвел.
«Ах, глаза – синие, ясные, радость, что бы ни случилось, они с ним!»
-- До завтра! – крикнул он вслед.
Надя превосходно отвечала на вопросы: «Который час» и «Какая улица», улыбалась, подставляла лицо мягкому ветру, и, наконец, даже попыталась завязать разговор.
-- Почему слон убежал?
М-р Грэди нахмурился.
«Чёрт!» -- подумал он: «Надо было послушаться гнусавого американца, достать слону самку».
Вслух ответил уклончиво:
-- Не знаю. Со всеми так бывает…
-- Да,… да… У нас была лошадь, Воронко. Старая и смирная, как башкирин… Но стоило выехать на ней в степь, она несла и бесилась, как дикий трехлеток.
-- Yes, yes*, -- закивал м-р Грэди.
М-р Грэди узнал, что Надя на лето уезжает. Прощаясь, он вежливо предложил учить ее английскому языку, если она захочет увидеть его, когда вернется в Петербург…
Перед глазами Шеломина, в ореоле желтых фосфенов, плыл круглый глаз. Вдруг, из дверей пивнушки выскочил Рубанов, схватил за руку.
-- Э, тезка, задумался? Пойдем пить, забудешь свою Наденьку.
В кармане у Рубанова бутылка водки, -- с пикника.
Шеломину странно, что вот, человек пьян и все кажется, будто он никак не может понять чего-то. Самого важного для него и очень простого.
-- Ты только не болтай, -- шепчет Рубанов. Может быть, меня ищут шпики. Пей!
-------------------------------------
* Да, да (англ.)
Шеломин выпил: может быть, вспомнит, поймет.
-- Опять задумался… На-ди-нька…
Нет не вспомнить. И не забыть Нади. Разве можно забыть такую девушку? Сколько ни пей.
Вечером, перед тем как лечь спать, м-р Грэди записал в своей особой записной книжке, где ничего не было касающегося пулеметов и марганца:
« Русские женщины имеют самые прекрасные фигуры в свете»
4. Титан и пигмей.
У Рабиновича не хватило гривенника на трамвай. Пьяный и злой он шел в свою
комнату на Старо-Невском проспекте. И жизнь в эту ночь показалась ему особенно гнусной, когда он, по привычке, взял перо.
Под столом звякнули пустые бутылки. В углу валялось грязное белье. Прачка забыла взять. В ручном зеркале, в черных волосах, седые нити.
Рабинович не поспел в лодку. Он слышал выстрелы, ускорил шаги, запыхался. На фоне стального зеркала залива стоял темный гигант. Карлик прицелился. Рабинович кричал: «Не смей!» Нервно щелкали винтовки…Тогда у него появилась эта смутная мысль.
От запоздавших пассажиров и матросов он узнал подробности истории Урамбо. Профессиональный навык побуждал его использовать всякое потрясение.
В ручном зеркале, в черных волосах, серые нити. И на старых щеках колючая щетина.
«Вот прожить так жизнь, поставлять редакциям материал для рынка, сочинять повести и стихи – грамотные и надоевшие… А что лучше?»
Вдруг, в ручном зеркале, неподвижные глаза ожили. Рабинович вспомнил свою мысль. Он написал заголовок.
Т и т а н и п и г м е й.
Высоко в неясных сферах пьяной мысли мелькали какие-то едкие образы.
«Если он не нужен, никому и ни для чего, значит не нужен, никчемен в мире человек».
Человек – прилежный студентик – зубрит ложную науку, чтобы, в свою очередь, мучить потом маленьких детей… В девственных дебрях бродит грозный дикарский бог. Леса трепещут перед ним. Стихии веселят его. Мир подчиняется ему… Но человек, белое обезьянье племя, открыл огонь и порох, гром и молнию, подчинил чудо. Огнем и громом он завлек титана в загородку из высоких толстых столбов и держал его там, пока его душа не помутнела… И когда он проснулся, преодолел волшебство, снова стал богом, -- человек, трусливый пигмей, убил его из вонючей трубки, за тысячу шагов…
Неожиданно Рабинович увлекся работой. Давно он не писал так легко.
Шеломин лежал в кровати, в комнате была белая ночь. После усталости, вина, бесчисленных видений, его тело расплывалось в какой-то неподвижной эйфории. В глазах расходились радужные круги, желтые и голубые фосфены сливались в сияющее море, на берегу Урамбо трубил в рог хобота, Надя, купаясь, выходила на пляж, лодка качалась. Выше и выше.
Утром, после бессонной ночи, он встал: дежурить за железнодорожными билетами.
Утром Рабинович был у редактора вечерней газеты. Редактор уныло потянулся к рукописи.
— Ну, что у вас там?.
Дела были плохи. О забастовках и Распутине нельзя писать. Никакой войны. Чем жить?
Редактор лениво развернул рукопись. Вдруг он задергался, оживился. Сразу, безошибочным чутьем, он угадал, что наконец, -- наконец.
„Вот единственный расстрел, о котором можно писать сколько угодно! Сенсация!"
— Вам аванс?
Рабинович вышел на улицу, подпрыгивая от предвкушения многих, вновь доступных, приятных гадостей.
Он обедал в знаменитом литературном кафе. На его столике, к общему изумлению, появилась бутылка хорошего вина. Его окружили. Рабинович угощал, читал свою статью. Литературные дамы предложили поехать на Канонерский. Рабинович взобрался на холмик, на том месте, где Петухин распорядился зарыть Урамбо, и вдохновенно .декламировал.
— Я видел, я видел его! Нет, это вовсе не было то, что вы называете „слон",—смирное ленивое животное, жующее булки в зоологическом саду. Из него, как от солнца, излучалась сила. Те неизвестные жизненные лучи, которые присущи всем нам, но только невероятно напряженные. В нем был бунт. Стихийное, дионисовское начало. То, чего нам больше всего не хватает. То, что мы должны разбудить в себе! Подумайте, почему он так бешено стремился к свободе? Почему так страшно ненавидел свое стойло? Он сломал его, как должна сломаться наша гнилая цивилизация, он вырвался через все преграды вперед, во что бы то ни стало, на волю!. Вот, что я увидел, вот, что должно вдохновлять нас, вести на путь борьбы, во что бы то ни стало, вперед.
Рабинович говорил долго, глядя поверх голов, вывертывая длинные руки с перекрещенными пальцами, но все слушали и разошлись по домам полные самых горячих побуждений.
Женщины украсили могилу Урамбо цветами. Обсуждали проект памятника. Урамбо должен был олицетворяться человекоподобной, титанической фигурой во фригийском колпаке свободы.
Вечером, когда м-р Грэди изобретал комбинации с немецкими пулеметами, а Шеломин, в сладчайшей своей эйфории, стоял в очереди у восточной кассы, Рабинович допивал аванс в развеселом кабаре.
В зал городской железнодорожной станции вбежал мальчишка газетчик.
— Вичерние Биржевые! Убийство Урямбо! Вичерние Биржевые! Убийство Урямбо!
5. Покровители животных.
Слава Урамбо росла. По пути, в провинциальной газете, Шеломин прочел.
Т е л е г р а м м ы.
С.-Петербург. Принц Сандвичевых островов, Урамбо, убит анархистами. Главарь злоумышленников, Анатолий Шеломин, студент, скрылся.
— Скоро с вами нельзя будет показаться, — прошептала, побледнев, Надя Никольская и убежала плакать — в уборную.
Поезд мчался через башкирские степи.
В железнодорожном вагоне третьего класса студенты и курсистки восточных землячеств, на трех полках друг над другом, как в парильне, сплавленные жарой в мокрый сгусток, пели свои студенческие: песни.
— „Дурак. Зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья".
Рожь, ковыль, скот, бахчи, перелески, деревушки. Мир, после трех дней в вагоне, на самом деле кружился, кружился без конца.
Толя Шеломин ничего не мог понять.
На востоке Европы была ночь. Ночью священника Никольского вызвали к болящей старушке. Дело было стоющее. Никольский поехал. Это была его профессия. И утром, после причастия, старушка, освободившись от мирской суеты, подписала завещание, отказав на помин души, т.-е. в полную его, священника Никольского, собственность, свой домик с фруктовым садом и огородом.
Возвращаясь, Никольский бережно поддерживал ларек с „телом и кровью" своего бога, так удачно помогавшего ему в делах.
„Недолго проскрипит старушенция, господи спаси и помилуй"— мелькало в его пустом и светлом сознании.
Так у Никольского скопилось в его приходе шесть домиков, по откосу большого оврага, с яблонями, малиной, крыжовником и парниками.
„Иначе, как быть с детьми?"
Никольский непоколебим в своей библейской отцовской правоте. У него четыре сына в реальном училище, один сосунок и дочь, Надя, курсистка — невеста.
Вспомнив о Наде, Никольский хмурится: не нравится ему Шеломин. Офицерская вдова, Шеломиха, живет пенсией, яблоками и вишнёвым вареньем, а сам он, сдуру, готовится на учителя.
Впрочем, Никольский смиренномудр и терпелив. Только все чаще и ласковее приглашает помощника присяжного поверенного Либуркина. Он любит потолковать с ним насчет конституционной монархии, угощая собственными, особенными, яблоками на садовой скамейке, откуда виден овраг, сады, парники и огороды и совсем не видно зданий, хотя это место тоже, почему-то, называется городом.
Никольский читает каждый день „Наш Край", орган местных патриотов, а Либуркин приносит либеральный «Наш Вестник», редактор которого два раза в год сидит в тюрьме. Сидит, конечно, не настоящий редактор, ловкий и говорливый адвокат, а запойный пьяница, мещанин Тирибакин. За каждую отсидку Тирибакин получает 20 рублей.
Занятый размышлениями, Никольский подъехал к своему голубому домику. Один из бесчисленных реалистов, первоклассник Иля, подал ему, приплясывая, „Наш Вестник" — от Либуркина. На обертке:
„Срочно. О. Павлу в собственные руки".
Этого никогда не случалось раньше.
Никольский развернул газету чуть дрожащими руками.
„Уж не насчет ли таксы на требы чего?"
Все попы города были злы на Никольского за то, что он сбивал цены. Отец Иоанн грозил архиереем и газетой. Он был даже у редактора. Только, по глупости, попал не к адвокату, а к Тирибакину.
Синим карандашей было подчеркнуто:
„Принц Сандвичевых островов".
— Господи Иисусе Христе!
На полях—надпись:
„У современной молодежи нет никакого разумного чувства, постепенности ".
Никольский спешил к своей пухлой половине.
Когда в дверях голубого домика появился Шеломин, попадья загородила ему дорогу.
— Что это вы, батюшка, в газетах пишут, арапку какого-то убили? Чай и арапка человек.
--------------------
Шеломин нашел Надю в парке. Она прогуливалась по главной аллее в белом шелковом платье с мопсом и Либуркиным.
— Толичка, — сказала Надя, — мы не можем больше встречаться.
Он ушел не ответив. В его жизнь ворвалось скверное и смешное, но он не знал, как бороться. Он был в редакциях. Газеты напечатали опровержение, с отеческим внушением, впрочем, что — „молодому человеку не следовало вмешиваться в действия властей". Однако, охотничий кружок, членом которого Шеломин был с четвертого класса гимназии, исключил его почти единогласно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лето было прекрасно и полно гроз. После зноя падал огромный град. Зной гнал из города в липовые леса, на холодные горные реки. Шеломин, самозабвенно и болезненно, пытался уйти в книги. Работал над задуманным весной рефератом о температуре не окруженных атмосферой тел в межпланетном пространстве; чертил проект нового двигателя внутреннего сгорания. Иногда он не выходил из дому много дней подряд.
— Толичка, ты ведь на каникулы приехал, брось свои книжки! — упрашивала Наталья Андреевна, его добрая старая мать, любящая и испуганная.
Шеломина раздражали ее неумелые утешения и расспросы. Тогда он уходил в соседнюю слесарную мастерскую к литейщику из депо, механику-самоучке — Анютину.
На косяке слободской избенки торчало древнее об'явленьице:
„Здаетца угол Хот через хозяйку".
Угол давно был снят Анютиным.
Там литейщик умудрялся собирать выточенные и отлитые по частям двигатели моторных лодок. Шеломин настойчиво занимался с ним, делал чертежи и расчеты, а литейщик бесплатно мастерил модели. Теперь их дружба стала еще крепче, так как Анютин ничего не хотел знать о его газетных приключениях:
— Начхать мне на всех Урамбов!.
Потом, у хозяина слесарной, Жилкина, Шеломин нанимал велосипед и мчался в пустынные чащи и предгорья, пока не изнемогал. Там он надолго мог забыть родной домик с иконами, лампадками, с жильцами, с яблочным и вишневым садом, по откосу того же оврага, где в синеватой зелени тонут особнячки чадолюбивого отца Павла.
Шеломин возвращался усталый, но с прежним возвращенным упрямством в серых глазах. Он заставлял себя думать о разных Надиных недостатках. Однажды Рубанов спросил ее: „Что будет, если Землю пробуравить насквозь?" Надя ответила: „Пустое пространство". Конечно, если ее спросить, как в учебнике, она ответила бы превосходно; но на самом деле ее мир все еще покоился на трех китах.
„Образование ей нужно только для большей привлекательности", со странной радостью заключал Шеломин… «Так еще в древней Греции женщины читали Гомера, чтобы придать оживление своим лицам".
Впрочем, подобные рассуждения помогали не надолго.
Потому что Шеломин знал:
В знойный медовый вечер, когда цветут липы, на той самой скамейке, рядом с Надей сидит Либуркин и говорит ей о Ницше, о сверхчеловеке, хотя у Либуркина геморрой.
--------------------
Однажды Наталья Андреевна вбежала особенно взволнованная и суетливая.
— Толичка, директор, директор к тебе!.
Директор гимназии, высокий старик с длинными волосами и бородой, как у Владимира Соловьева, вегетарианец и председатель общества покровительства животным, искавший популярности у молодежи и считавший себя, поэтому, крайним либералом, вошел в комнатку Шеломина, как доктор к больному.
Он был сторонник прогресса, дорожил временем и сразу приступил к делу.
— Вы были хорошим прилежным учеником, — начал он сладко. — Я пришел, желая помочь вам, объяснить, как умею, то моральное негодование общества, какое вызвали вы. Я убежден, конечно, что это — случайность, юношеская горячность может быть. Тем не менее, я хочу, чтобы именно вы почувствовали то необычайно светлое, радостное и высокое, что составляет самую душу этого странного случая. К славе и чести вида Ноmо sарiеns, его этические нормы распространяются не только на себе подобных. Нет, постепенно, все живое и страдающее находит в культурном обществе все большую и большую защиту. Подумайте, к каким вершинам мы идем! Скоро нельзя будет безнаказанно убить даже кошку!.
— Кошку! — воскликнул Шеломин.
— Да, самую обыкновенную кошку, — подтвердил директор.— Что касается мeня, я не стыжусь признаться, — я плакал, когда читал … двести пуль. такой большой слон.
Директор достал носовой платок и высморкался.
— Вот, мой дорогой, я думаю, что ясное сознание вины поможет вам правильнее оценить происшедшее. Вы должны постараться загладить эту… ошибку. Я думаю, публика была бы до известной степени удовлетворена, если бы вы вступили в наше общество, взяв на себя, таким образом, определенные обязательства на будущее время. Подумайте, молодой человек!
Директор ушел гордый от сознанья исполненного долга.
Шеломин бросился к своим спасительным формулам. Только они никогда не изменяли, были понятны и верны.
Он не мог бы решить, каким взрывом вспыхнет его молчаливое бешенство и когда он перестанет сопротивляться ему, если бы, в Сараево, такой же юноша, быть может под влиянием такой же тоски, ненависти и любви, не всадил пули в слоновью тушу Франца- Фердинанда. Так как Франц-Фердинанд был несравненно более крупным зверем, Урамбо был забыт.
Мир двигался неизбежным путем. М-р Грэди продал свои пулеметы.
Скоро в газетах, вместо самоубийств, погромов, проделок господина министра народного просвещения и других национальных развлечений, появились грозные имена левиафанов. — Австрия, Сербия, Германия, Франция, Россия.
6. Черная каска.
— Война!
Шеломин нашел выход.
Казачий офицерик Зарубин приехал на один день в командировку, привез немецкую каску. Она была черная и блестящая, с медным орлом и медным рогом. Каска попала на туалетный столик невесты Зарубина, Тони Петровой. У Тони перебывал весь город. Надя завидовала подруге и мечтала: „Как прекрасно иметь жениха на фронте!". Либуркин был белобилетник. Надя стала вспоминать Толю.
Слава Шеломина исчезла еще скорее, чем Урамбо. Кроме мобилизации, в городе произошли не менее потрясающие события.
1) Начальница женской мариинской гимназии обращалась к акушерке.
2) К городскому голове вернулась жена, сбежавшая два года назад. Супруги помирились, устроили пир, как на свадьбе. И чуть ли не в тот же день из консистории пришла бумага: разведены.
3) В летнем театре, на пьесе „Угнетенная невинность", когда герой пьесы произнес фразу: „Жены существуют для того, чтобы изменять своим мужьям", сын председателя местного отдела Cоюза русского народа¹, Костегукайло, вышел из театра, а затем вернулся с кирпичом в руках и ударил им свою жену по голове.
Еще хуже было на небе. Заговорили о цеппелинах ².
„Кто их знает", — размышляли обыватели, — „немец — народ продувной".
Отцы города, лавочники и бабы в первый раз, после давно забытого детства, подняли очи горе. И звездной ночью, в темной опрокинутой пропасти небосвода, они открыли странные, невиданные вещи. Особенно поразил их громадный желтый топаз Юпитера. Такой звезды, конечно, не могло быть. Это был прожектор. Базарные торговки собственными глазами видели немцев.
— И все, антихристы, в котелках!
Начальник гарнизона издал приказ, гласивший, что "пожары, возникшие от вражеских снарядов, следует тушить обыкновенным способом".
Обсуждение этих происшествий и турецкие проливы заняли все свободные языки.
--------------------
Шеломин ходил радостный, зная, что вот еще миг и его подхватит буря, как тогда —Урамбо!
И на многих, совсем других лицах была радость. Люди жили, казалось века, тысячелетия, каждый в своей норке, на двуспальных кроватях, на мягких подушках, на простынях пропахших супружеской влагой; ругались, били жен, вечерами, после „присутствий", ездили -- в клуб — переброситься в картишки и выпить, в публичный дом — разжигать вспухшую страсть. От двуспальной постели, женских слез, зеленого стола и публичного дома — куда уйти? И, вдруг, война, жизнь, чужая властная сила, выдернула из заклятого круга — прежде всего в степные просторы, в леса, на чистый воздух — человек стал выше. Каждый, конечно, думал, что останется жив, что война продлится самое большее год.
Шеломин смотрел на портрет своего отца. Лейтенант стоял, гордо подняв голову, с морским биноклем в руке. Лейтенант погиб в Японском море. Синие просторы мира звали. Они были радостны и бездумны. Шеломин решил: он пойдет.
Правление сталелитейных заводов акционерной компании «Людвиг Кра и Шульце», со всей, присущей деловым людям, осторожностью, разрабатывало пятилетнюю программу военной производительности.
Наталья Андреевна потемнела, задумалась, замолчала. Война, бог, судьба — были одно. Разве пойдешь против?
Шеломин забросил формулы и моторы, бродил по улицам улыбаясь, подняв голову, как будто отомстил, давнишнему врагу. Знакомые приветливо кланялись: новость уже облетела город. Поп Никольский догнал, остановил:
— Что не заходите!? Надинька то скучает. И подмигнул.
Председатель охотничьего кружка долго неопределенно извинялся, обещал „пересмотреть вопрос" и преподнести, перед отъездом, финский нож.
По Центральной шлялась патриотическая демонстрация: человек сто гимназистов, студентов и еще непризванных лавочников. Впереди, рядом с царским портретом, шествовал студенческий лидер Орлов. Он был под административным надзором, не мог кончить университета, у него была семья. Война, резолюции германских социал-демократов были прекрасным поводом для помилования! На базаре и в парке Орлов с большим старанием произносил победоносные речи, а у дома губернатора организовал сбор пожертвований героям. Его превосходительство вышел и благодарил.
Шеломин не любил разбираться в политике, он занимался физикой; но к его горлу подступал восторженный ком: эс-дек ⁴ Орлов как бы благословлял его решение с высоты самых знаменитых теорий. Ополченец, крепкий мужик с большой черной бородой робко дернул Шеломина за рукав.
— Ваш бродь*, зачем это?
И двинул бородой на демонстрацию. Он не мог объять величия событий.
— Сочувствуют. Чтобы легче было кровь проливать.
Шеломин оглянулся. Это был Анютин. Шеломин покраснел.
На крыше электрической станции взвился белый пар. Завыл гудок. Аннушка, соборная кликуша, с детской головкой на скрюченном теле, напугалась, запричитала. В ее ясных глазах вспыхнул огромный свет.
— Господи, господи, господи. гряди, гряди, гряди. глас трубный.
-------------------------------------------
* «Ваш бродь» -- «Ваше благородие»
— Пойдем, — сказал Анютин.
Он искал Шеломина. Они долго шли молча. Анютин ворочал тяжелые, чугунные брусья мысли. Сказал:
— Болтают, будто воевать хотите?
— Все равно, студентов призовут, — ответил Шеломин. — Все говорят.
— Ну и дожидались бы. Али к нам в депо. Токарей нам надо. Точили ведь, малость.
Анютин взмахнул руками.
— Эх, это ты все из-за бабы! Знаем мы вас!
Сердце Шеломина метнулось, больно ударилось о ребра клетки, но тренированный мозг механически стал собирать чужие, газетные, слова. Шеломин говорил о Бельгии, о проливах, о грядущем экономическом расцвете. Анютин мял черную, пропитанную смазкой, кепку, не был согласен и не знал -- как быть с учеными словами. Вместо ответа спросил:
—Как же, модель-то лить?
—Нет уж, погоди. когда вернусь. Все равно, — вздохнул Шеломин.
Они дошли до калитки.
—Ну, досвиданья вам.
Анютин молча жал руку, хотел сделать что-то для друга, сказать главное,— потоптался и ушел, унося свою бессловесную правду. Кругом щурились ставнями домишки. У ворот мещанки лузгали семечки. Чиновник в фуражке с кокардой, в нижней рубашке и драных брючках, держал под мышкой два трехцветных флага, — третий, взобравшись на лесенку, привязывала босая баба. Девица в розовом платочке показала на Анютина пальцем и прыснула.
— Вот дык кавалер!
Анютин запнулся в колее, снова отчаянно махнул руками и крикнул:
—Эх, пропадешь с тилигенцией!
Баба вздрогнула, выругалась: „Чёрт!", распустила юбку. Чиновник заглянул.
Шеломин не слышал.
Он занялся очень важным для него вопросом: удобно ли сегодня же воспользоваться приглашением Никольского или лучше „выдержать характер" до завтра? Тело казалось невесомым, жаждало движенья, все равно надо было куда-то пойти. В голубом домике ждала Надя. Размышляя, он стал бриться. Побрившись, подумал: „Если отложить до завтра". на подбородке чуть-чуть проступили волосы.
Надя встретила его веселой суетой и улыбками.
—У-у, злюка! Не приходил. Ну, поссорились, ну и будет. Точно --
взаправду все.
Прямоугольный раздвижной стол был завален вишней. Попадья и реалисты вынимали, с помощью шпилек, вишневые косточки.
— А, Толичка! Давненько, давненько. Чайку не хотите ли? Кофею? — принялась угощать попадья, подвигая варенье, вишневое,, малиновое, яблочное, смородиновое, липовый мед, сахар, пирожки, ватрушки, сдобнушки.
Сосунок запикал. Попадья вынула тяжелую, как на полотнах Рубенса, грудь. Нет, разве могли быть „взаправду" — Урамбо, выстрелы, жизнь — в этом жирном сахарном углу? Все это — сказки, веселые. и страшные, рассказанные старухой няней, в детской, при свете ночника.
Попадья и Наталья Андреевна шушукались, обсуждали, когда назначить обряд обрученья, какие печь пироги: с яблоками, с вишней, с мясом или курники?
Надя и Толя пошли в сад, на скамейку, — „посидеть."
Директор гимназии устроил для добровольцев, прежних своих питомцев, прощальный ужин; Было очень торжественно. За правым узким концом стола, как Саваоф, восседал законоучитель, о. Павел. Затем — городской голова, начальник гарнизона, председатель суда и прочие отцы города. На левой половине — молодежь. Директор занимал место посредине. Перед ним стоял винегрет в провансале, остальные ели поросенка с кашей. Директор говорил речь.
Директор преподавал историю, а потому начал с «яиц Леды» ³. Он перечислил все германские города, бывшие когда-то славянскими, начиная с туманной северной Пруссии и удаляясь все дальше к югу, к благословенному Босфору и Багдадской дороге. Там, в голубых водах аргонавтов и нимф, директор снова потонул в мифологии, возвышаясь, постепенно, до полумесяца над Ай-Софией, где еще выше должен был воссиять крест. Но так как креста все еще не было, голубые воды аргонавтов превратились в мутные потоки философии, где, в колбах германских алхимиков, из Канта родился Крупп. Таким образом, необходимость уничтожения свирепых гуннов стала очевидной.
— Знайте же, — патетически закончил покровитель животных, — каждый из вас, вонзая штык в немецкое мясо, исполнит верховный нравственный закон, вечный, как звездное небо!.
Во время речи директора был съеден не только поросенок, но и рябчики и сливочный крем. Начальник гарнизона, представительнейший генерал, опрокинул последнюю рюмку померанцевой и, под влиянием естественного подъема, провозгласил тост за здоровье обожаемого монарха.
Все встали и бодро трижды прокричали ура.
Тогда директор принялся за свой невинный винегрет в провансале. Генерал все еще стоял, приподняв рюмку, прищурясь, залюбовавшись возвышающей картиной: направо — Саваоф, налево — Исааки идущие на заклание, в центре — премудрый Авраам и потом он, генерал, выше еще генерал, и еще генерал и над всем —обожаемый.
Тост генерала был кстати. У обожаемого, в переименованной столице, в Петрограде, болел живот. Три бумажки о помиловании приговоренных к повешению были употреблены в дело. Он взывал к придворному святому; но святой был занят господом богом, т.-е. любовью, и только к вечеру прислал рецепт: „Ступай в баню с бабой”.
По сродству душ, генерал ощутил вполне сходное побуждение и, насвистывая „Коль славен", покинул патриотический пир. Саваоф, предпочитавший православную очищенную, хоть и запрещенную высочайше, по причине буйного мужицкого нрава, почувствовал настоятельную потребность в свежем воздухе. Шеломин почтительно его поддерживал. Никольский икал, вскидывал вверх бороду. В небе плясал огромный Юпитер.
— Ишь, немец, проклятый, опять шпионит!
— Что вы, папаша, до фронта тысячи три верст. Цеппелины едва перелетают Ламанш.
— Кто его знает, Ламанш, — мотнул головой Никольский.
Шеломин, чтобы успокоить, повел его в гимназическую обсерваторию. Никольский заглянул в окуляр. Перед ним был круглый диск с полоской и четыре точки по сторонам. Точки соединились в линии. Никольский увидел немецкий котелок. Впрочем, Никольский ничего не сказал. Он почувствовал себя плохо и облегчился в лейденскую банку. Длинная веселая искра с треском кольнула, ослепив. Жуть подрала по коже.
— Ципилин! — закричал Никольский.
— Гимн, гимн! — кричали в директорском зале.
Шеломин не вернулся.
Через полчаса, в парке, у часовенки на месте убийства какого-то губернатора, он условился встретиться с Надей.
Была черная, ждущая разрядов, ночь. В небе — Млечный путь. Столетние березы шептались. Травы пахли степью, земля, мир — жаждой. Шеломину на мгновенье стало жаль непоправимого. На спине духа зачесались растущие крылья. Он вспомнил свои одинокие вечера; но Надя пришла на четверть часа раньше.
Они шли прижавшись, стройные, оба почти одинакового роста, замерли у белого ствола. Шеломин летел в высоту, не видя и сгорая, как метеорит, от невыносимого стремления. Она была с ним, остальное стало безразличным. Французский посол телеграфировал в Париж. Смысл телеграммы был такой: „Vivе lа Frаnсе!* Денежки не пропали. Завтра русские войдут в Пруссию". Земля представлялась Шеломину небольшой круглой гранатой. Он зарядил ее в двенадцатидюймовую пушку и выстрелил. Полет длился, входя в межзвездные пространства с огненным, сжигающим, светлым холодом. Время переставало, но сердце, почему-то, еще билось.
— Милый, — задыхалась Надя, — привези мне каску.
— Да, — прошептал Шеломин.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Через неделю, вместо анализа бесконечно-малых, вместо температуры тел в межпланетном пространстве, вместо теории электронов и усовершенствованных двигателей, он зубрил:
— Для чего у штыка бывают выемки или долы?
— Чтобы легче было стекать крови!
7. Пси и человецы.
Были великие битвы. Опустели деревни. Давно, в первом же бою, был убит крестьянин с большой черной бородой, не понимавший, кому нужна демонстрация с царским портретом и социал-демократом Орловым. Каждый день, во Франции, Бельгии, в Пруссии, Польше, Галиции, Сербии гибли многие тысячи мужиков и еще больше валялось по лазаретам, фабрикам калек. Благородные дамы получили новые военные развлечения и модные платья с красными крестами.
------------------------------------------
* «Да здравствует Франция» (фр.)
У газет был прекрасный тираж. Рабинович купил в рассрочку телефон для переговоров с редакциями. Над его письменным столом, вделанное в бархатную рамку, красовалось изречение знаменитого французского социалиста:
«Мы упали с облаков теории на землю,
Но каждый из нас упал на свою родную
землю и почувствовал горячую потребность ее
защищать».
Рабинович писал.
„Пускай еще в плену бельгийцы,
Настанет время отомстить.
Грозой ужасною, убийцы.
Вам духа армий не сломить.
Настанет час — там, где железо
Тела дробит под рев гранат,—
Там Русский Гимн и Марсельеза
О мире Мира возвестят".
Он старался писать крупным, размашистым — „русская тройка!"— почерком. Мир, конечно, должен был быть победным. С рифмой, как с женщиной, нужно быть храбрым.
Рабинович размахнулся: „Рубнем тевтона, шваба, шведа!" Шведский посланник долго сочинял протестующую ноту; но шведская нота не помешала сбыту патриотических стихов. Рабинович обсуждал вопрос о новой тройке и новых ботинках.
Веселый юристик Александров писал на фронт знакомому корнету, что по пути в Петроград, на волжском пароходе, ему „без всяких обещаний" отдалась девушка курсистка, дочь учителя словесности. Этого никогда не могло бы случиться раньше…
Социал-демократ Орлов устроился в Министерстве Торговли и Промышленности.
Вообще, война имела свои преимущества. М-р Фелпс, фабрикант зеркального чугуна и ферромангана, владелец солидного количества акций, облигаций, сертификатов и всеми уважаемой чековой книжки, выехал из Биарица в Лондон, экстренно вызвав других столь же почтенных джентльменов: Англия приняла деятельное участие в делах на континенте. Джентльмены собрались в кабинете м-ра Фелпса. М-р Фелпс стоял у окна, откуда можно было видеть Лордз Криккет Граунд, у м-ра Фелпса был ишиас, остальные сидели. Кабинет, джентльмены и сигары джентльменов были совершенно подобны тем, какие показывают в кино; но ни одно кино не могло показать, о чем говорили и что постановили джентльмены. Джентльмены говорили — об увеличении производства и справедливом увеличении прибыли, во имя великих культурных целей; постановили — обратить внимание на марганцевые рудники Закавказья, ибо иначе за марганцем придется ездить в Чили. С этой целью: 1) настаивать на захвате проливов и на принудительной ликвидации германского и австрийского капитала в России, в первую очередь предприятий акционерной компании «Людвиг Кра и Шульце» 2) уполномоченному, м-ру Грэди, телеграфировать инструкции; 3) русским обещать крест над Ай-Софией.
Германские армии шли к Парижу. Русские вторглись в Пруссию. В Турции был еще мир. На белых свечах минаретов, в самом пламени, пели муэдзины. Черное море, прекраснейшее из всех, было спокойное и голубое. Названия приморья -- певучи: Иниада. Ине-боли. Истифан.
М-р Грэди получил предписание остаться в Петрограде. Задачи м-ра Грэди были просты. Марганец должен был попасть в лапы британского синдиката. М-р Грэди был уверен в успехе и в процентах. Через два месяца м-р Грэди добился согласия на предоставление синдикату преимущественного права скупки находящихся в России предприятий австро-германской компании «Людвиг Кра и Шульце». Старший помощник начальника юрисконсультской части, Орлов, выдававший ему справку, из уважения к „просвещенным мореплавателям" суетился сверх меры. Он почти бегом помчался с бумагой на подпись. В корридоре м-р Грэди сунул ему четвертной. Социал-демократ стал краснее развесистой клюквы.
Что делать, -- извинялся англичанин, -- мне сказали, что здесь так полагается.
Старший помощник начальника юрисконсультской части промолчал. Он слишком дорожил своим местом, дававшим ему отсрочку призыва на военную службу.
В Петроград стекались сотни тысяч мужчин, искавших такой же отсрочки. Со стен домов исчезли зеленые наклейки о сдаче комнат. Студенты ночевали на вокзалах. Газеты печатали воззвания к дамам из „общества", стараясь ввести моду отдавать комнаты в безлюдных квартирах богачей. Жена директора завода, узнав, что Надя дочь священника, оглядела ее в лорнет и сказала:
— Хорошо, я возьму вас на испытание.
У Нади оказалась превосходная комната. На письменном столе стояла электрическая лампа с бронзовой статуэткой Афродиты под желтым абажуром. Дверь шкафа была зеркальной; мягкие кресла и диван — обиты гладкой, прохладной, коричневой кожей. Не хватало только английского языка и немецкой каски.
Надя разыскала м-ра Грэди, вспомнив его обещание. М-р Грэди очень обрадовался. С тех пор он постоянно стал доставать свою особую записную книжку. В России могли быть более удивительные приключения, чем в Африке. Решив, что министерского делопроизводства хватит на всю зиму, он, в свою очередь, стал учиться у Нади русскому языку. Они стали встречаться каждый день. Увидев англичанина, жена директора завода объявила своей квартирантке, что она может располагаться на всю зиму.
Раз в неделю Надя писала письма Толе Шеломину: о своей комнате, об успехах м-ра Грэди в деле с компанией «Людвиг Кра и Шульце», о жене директора завода. Ответные письма были пламенны и нежны.
---------------------
В комнате Нади не хватало только немецкой каски на туалетном столике. М-р Грэди, в кожаном кресле, в безукоризненном костюме, курил кэпстэн. Завистливая бестужевка Вера Степанова разливала чай из блестящего никелированного самовара. Веселый Александров, в зеленом студенческом сюртучке, рассказывал анекдоты. Александров — поступления 1913 года, свято верил в свою звезду, в чертову дюжину, в то, что его не возьмут на войну. И, действительно, 1913 год, единственный в университете, не был призван. М-р Грэди молчал: русский язык был идиотски труден; но Надя оказалась строгой учительницей.
— М-р Грэди, почему вы не разговариваете? Вам нужна практика. Ведь вы можете немножко говорить по-русски?
— Да, я могу, нем-ножка говорю.
— Опять забыли спряженье!
— Я могу немножка го-во-рить!—поправился англичанин.
В глазах у Нади вдруг тысячи веселых искр.
— Ну, м-р Грэди, спрягайте мне новый глагол.
— Yes.
— Я Матрена.
Англичанин сморщился от неисчислимых окончаний “ю. ешь. ет".
— Я матреню, ты матренешь, он матренет.
Александров прыснул из носа чай, подавился булкой.
Англичанин смутился.
„Ну, да — ем., ете. ют".
— Мы матренем, вы матре-нете…
„Что они смеются?."
М-р Грэди на секунду задумался, потом решительно:
— Они, оне матренкают!
Надя повалилась на диван, задрыгала ногами. Александров заикал. М-р Грэди обиделся. Заговорил по-английски.
— М-р Грэди, милый, да ведь „Матрена" это. это женщина, имя!
„Ах какая, какая. ну погоди же!"
М-р Грэди потрогал в кармане бумажник и предложил:
— Пой-едем-те куда ни-будет.
— В Луна-Парк! — закричал Александров.
— В Люна-Парк, — подтвердил м-р Грэди.
Это было ему понятно.
По пути м-р Грэди рассказывал о южных стрaнах. Над Петроградом навис черный туман. Сквозь туман английских слов, ослепляя, сверкало солнце. Сверкали воды великих рек. Пьяными запахами испарялись бесчисленные растения. Огромный слон раздвинул заросли. И вдруг поднял двухтонную пяту над головой Толи Шеломина.
--------------------
Русские отступали в леса. Шеломин, со своим взводом, был в сторожевом охранении. Была золотая осень.
Шеломин лежал на спине, положив под голову руки, смотрел в голубое небо, на золотые деревья в голубом. В холодном неподвижном воздухе пели пули -- далекие и нестрашные. Или, может быть, не пули вовсе, — а высоко поет под сурдинку невидимая скрипка чистую детскую мелодию, может быть „Жаворонка" Глинки. Может быть.
После бессонных ночей, после чудовищных походов, сознание спит. Это так только, для виду, открыты глаэа. Впрочем, если бы, как прежде, помнить все, голова давно бы сгорела от невыносимых образов.
— Война сделала из меня зверя, — говорил, улыбаясь, ротный командир, —только не надо об этом думать.
Главное — не надо думать.
Давно нет ни добра, ни зла. Есть видения, ругательства и песни. Солдаты грязные и сильные. И странно вспоминать о днях мысли среди бессмысленной жизни этих механических тел.
Когда подъехал казак-вестовой и вдруг упал, — задел смычок невидимой скрипки, — к золотой осени и голубому небу прибавилось немного красной краски. Только немного краски.
Иногда были письма. Часто Шеломин подолгу не разрывал розовых, сине-серых и белых конвертов: так странно было читать. Письма матери были тревогой. О чем? Разве можно бояться, дойдя до пределов, ведомых ему? Шеломин улыбался. Отвечая, тщательно подбирал слова, проводил долгие часы, изобретая светлую успокоительную ложь. Письма Нади, спокойные, эпические, о каких-то мелочах, были на самом деле, музыкой, Лунной сонатой. С ними, как с невидимой скрипкой, хорошо грезить, исчезать в светозарных, тончайших лучах. Письма товарищей были редки, Петя Правдин добросовестно писал об университете, о сходках, о фараонах, неизменно украшавших простенки окон длиннейшего коридора, о призыве первокурсников и о своем намерении поступить в какое-нибудь военно-техническое училище, с самым продолжительным курсом, чтобы соединить „приятное с полезным". Только раз письмо пьянчуги Рубанова, его славного тезки, смутно и мучительно взволновало Шеломина. Письмо было измазано военной цензурой. Все-же Шеломин разобрал, что резолюции немецких социал-демократов доканали беднягу. В штабе справлялись о его благонадежности.
— Dаs Карitаl. -- скороговоркой напомнил услужливый гномик, в далекой полутёмной клеточке мозга.
У мертвого казака приказ — в окоп. Слова команды, как ругань — Шеломин шел нагнувшись. За ним, друг за другом, сороконожкой — взвод. Поблекшие травы хранили чистые брызги. Взрывы стали ближе. Поле — стальное и сияющее. Его мелкая жизнь однообразно катилась мимо. Невидимый смычок затрепетал, озлился. Вдруг, очень, близко:
— Тью-у!.Это она, знакомая, распущенная старуха — смерть. Шеломин видит: под кустом орешника большая, тощая собака грызет полусгнивший труп. Шеломин выстрелил, собака исчезла. А в мозгу застряло. Откуда это?
„Благословенно господне имя!
Пси и человецы
Единое в свирепстве и уме".
И долго в пустой голове выстукивал кровавый пульс: ,
— Пси и человецы. пси и человецы. единое.
На войне к нему часто привязывалось что-нибудь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стертые ноги должны двигаться. Их не забудешь. В окопе, в жидкой грязи, в тяжелых сапогах чокает грязная теплая сырость. И опять надо двигаться, чтобы не застыть. В сражении, когда плоти нет, когда до боли накаляются винтовки, -- легче.
Немцы сделали ленивую попытку перейти в наступление. Не выдержали и притаились. Между линиями осталось шестнадцать мертвых. Один -- в каске.
Тогда Шеломин вспомнил: полковник обещал командировку в Петроград; а каски все еще нет.
„Надо самому достать. Не покупать же!"
Шеломин подошел к пулеметчику, рябому татарину. Как всегда, грубо и бодро, сказал:
-- Крой Акчембетов! Чтоб ни один чёрт носу не высунул!
А сам, не думая, -- главное не думать, -- под колючую проволоку. Быстр ветер пулемета.
-- В-в-в-в-в.в!
И смолк.
Хороший Акчембетов первый номер, лучше не найти; а вдруг вот „максимка" -- бах, бах и застрял. Никогда такого не бывало.
-- Ах ана.! -- смотрит Акчембетов, вдоль дула -- тонкая, тонкая трещина.
Это был один из пулеметов м-ра Грэди.
—„Пси и человецы. пси и человецы. единое."
-------------------------
М-р Грэди, Надя, Александров и Вера, за узорным столиком, ели необыкновенные блюда, пили вино. Кружились головы. Слушали, не слыша, шансонетки, смотрели на танцовщиц, англичанин восклицал: «Hash» и «bу Jоvе!»
Александров спрашивал:
-- Мистер, вы умеете выражаться по-русски?
Англичанин отвечал.
-- Да нем-ножка.
Потом катались по „американским горам", падали, теряя вес. Надя кричала. М-р Грэди увлек ее в „замок ужасов", где вращались стены, кривились зеркала, проваливался пол и, наконец, невидимый пропеллер поднял Надину юбку.
-- Ну, этот номер чересчур американский! — заявила она.
-- Чересчур американский!—ликовал м-р Грэди.
Он успел заметить длинные черные чулки с тесемочками и розовую гладкую кожу выше колен.
У выхода пьяный ободранный студент протянул руку. М-р Грэди сказал: „Пшел!" Надя узнала студента и, закрывшись улыбками, попросила: „Give him, рlеаsе" *.
Англичанин дал двугривенный. Потухшие глаза бродяги блеснули страстью и гневом. Это был Анатолий Рубанов.
М-р Грэди отвез сначала Веру и Александрова, потом держал мягкую Надину руку и наслаждался тем, что, без всякого риска быть понятым, говорил девушке такие вещи, каких не говорил даже Бетси. Надя смутно волновалась и ждала. М-р Грэди решил сделать предложение. Это было безопаснее, чем даже в Африке: он объяснит ей, что такое „свитхарт".
„Какие чудесные, полные ноги!" — записал он в своей особой записной книжке.
На другой день Надя была у Веры Степановой.
--------------------------------------------------
* «Подайте ему, пожалуйста».
-- Милая, — сказала она, — напиши мне письмо. Я не могу.
И села, покраснев.
— Кому же?
— Толе.
Отец Веры был преподавателем словесности. Она славилась, всякого рода литературными произведениями.
М-р Грэди обещал подарить Наде каску.
--------------------------------
Шеломин взял каску и, почти выпрямившись, радостный, пошел назад.
Поздней осенью, в полях, воздух чистый, холодный и влажный. Вдруг воздух стал жестким, застрял в груди.
Вольноопределяющийся Фишер из Гейдельберга, математик, мечтавший, как Шеломин, использовать внутриатомную энергию, с такими же серыми точными глазами, внимательно следил, поверх мушки, за ползшим вперед русским. Он долго не спускал курка, удивляясь слишком бессмысленной храбрости. Русский подполз к трупу его товарища.
„Скоро они станут охотиться за скальпами", -- с ненавистью подумал немец.
Он твердо навел дуло между лопаток врага, там, где русские шинели загибаются в складки, и выстрелил.
Шеломин запнулся, упал ничком. Ах, как быстро темнеет поздней осенью!
8. Предел а в степени х.
Лес на востоке все ниже уходил от апельсина луны. Было тихо. Лишь иногда, редко-редко, грохал пулемет. Шеломин легко встал. Ноги больше не болели. Как-будто кругом не изломанный снарядами лес, а старый знакомый парк. Близкий окоп исчез. Шеломин заблудился. Тогда он отыскал Полярную звезду и пошел направо.
Ночь была прекрасна. Он шел сквозь перелески, лунные поляны, взбирался на холмы. Потом он увидел много светлых огней, вышел на дорогу и скоро попал в маленький прифронтовой городок.
Ополченец с большой черной бородой заметил кровь на плече Шеломина и, подойдя, ласково сказал:
-- А вона лизарет, вашбродь.
И двинул бородой на самый большой каменный светлый дом. Шеломина встретил знакомый полковой врач -- Никитин.
-- Что, ранены? -- еще ласковее спросил он. -- А для вас у меня —
сюрприз!. Нет, сперва пойдем посмотрим, что у вас там. Так… Пустяки. Плечо на вылет.
В перевязочной радостно пахло чистотой.
Совсем не больно.
Горячая ванна, тугая перевязка со скрипучей белоснежной ватой, чистое белье и сверху мягкий коричневый халат из верблюжьей шерсти.
-- Как хорошо!
Как будто снова, навсегда вернулся настоящий культурный мир, с книгами, лабораториями, лекциями.
У окна, отвернувшись, в белом халате и белом платке, стояла высокая девушка.
-- Сестра, примите нового больного! -- весело окликнул ее Никитин…
А-а!
Толя!
Надя!
Как радостно поцеловаться при всех.
-- Я знал, что ты приедешь. Разве можно оставаться там!. Ты потому так долго не писала?
— Милый!
—Он может побыть в вашей комнате, — сказал Никитин, в последний раз взглянув своими добрыми голубыми глазами.
И они уже вместе, в маленькой белой комнатке, вместе, обнявшись, сидят на ее чистой кровати. Рядом — туалетный столик.
— Вот, — сказал Шеломин и положил на него каску.
Она была прострелена трехлинейной пулей. Кровь, оттаивая, сочилась на белую скатерку.
----------------------
Легко и страшно высоко поднимаются розовые волны страсти И нет, нет исхода слишком высоким гребням, разве только -- смерть. На дне — красные губы, красный жемчуг.
— Почему, Надя, я такой легкий и все, как-будто, не так, как всегда? И счастье мое — великое и особенное, все-же не то, каким должно было быть? Или я так устал с фронта?
В ее прекрасных глазах вспыхнул тот, безумный, свет кликуши.
— Разве только ты один не знаешь, что какое-то могучее влияние проникло душу каждого и все достоверно узнали о приближении Иного Мира?
Шеломин невольно, ласково, положил руку на ее голову. Впрочем, это ничего. Ведь она — верит. Это пройдет.
— Пусть раздается Трубный Глас! Кто встретит смерть с любовью, тот будет жить. Целуй же, целуй меня больше!
Все же, несомненно, в мир вошло необычайное. Все торопились. Времени оставалось мало. Союзники торопились уничтожить немцев, немцы союзников. Ставка стягивала резервы. Внезапный чрезмерный грохот, иной, чем во время прошедших битв, потряс стены.
Шеломин, повинуясь непреодолимой повелительной привычке войны, быстро вышел в коридор, потом на террасу. Был блеклый рассвет. До горизонта тянулось ровное черное поле. Вокруг было очень много солдат. И, казалось, все они были одинаковые, — гиганты с черными бородами, все стояли молча, плечо к плечу и залпами, без команды, стреляли вверх.
А там, по самому горизонту, Шеломин ясно видел, мчался он, чудовищный враг, Урамбо! Вдруг он взметнул свой шаг вперед.
Серое небо — вовсе не дождь, не туман, а гладкая поверхность блестящей марганцевой стали.
— „Зачем", подумал Шеломин, „выемки по бокам?"
И невидимый сосед ответил:
— Выемки или долы, чтобы легче было стекать крови!
— Разумеется.
Шеломин вскинул винтовку и выстрелил.
— Зачем ты стрелял? Разве ты полицейский?
Рядом стояла Надя.
— Беги! — крикнул Шеломин.
—Нu-r-r-r-r-r-аh!—заревело, колеблясь, стальное небо.
— Ррр-рр-рах!
— Ах!
— Беги!
Поздно. В грохоте настала тьма и после грохота — тяжесть. Воздух свинцовый, черный, входил в грудь под страшным давлением.
— Если предел х равен нулю, то чему равняется предел а в степени х?
Предел а в степени х -- это он, Шеломин!
„Чему равняется?. чему равняется?."
Внезапно в темноте слабо блеснула боль. Шеломин повернулся, поднял плечом стальное небо. Боль вспыхнула огромным желтым пламенем.
— Единице! — крикнул он и сдвинул влажные от ужаса веки,
Прямо в его лицо, сквозь мглу, смотрело желтое солнце.
Он лежал на прежнем месте. Длинные сухие травы покрылись инеем.
Шеломин понял.
И понял он гораздо больше, чем сумел бы выразить словами. Его сумеречный мозг вспыхнул в последний раз и, как проекционный, фонарь, отбросил на темнеющий экран небосвода — марганец м-ра Грэди, Урамбо, директора гимназии, лейденскую банку, глупенькую лучезарную Надину головку и то, что он ее больше не увидит.
Шеломин вздрогнул, хотел подняться—упал, подавленный страданием. .
Солнце мучило его глаза.
Тогда он отхаркнул кровь и, собрав последние силы, плюнул это проклятое жизнедарящее солнце. Оно запенилось, зашипело и потухло навсегда.
Черная каска валялась рядом.
9. Божье слово.
М-р Грэди телеграфировал синдикату:
„Марганец наш. Выезжаю".
Надя получила каску, аккуратно пробитую трехлинейной пулей, слегка попорченную кровью, но вполне продезинфицированную. Каска лежала на туалетном столике. Надя лежала на кровати в голубой пижаме, м-р Грэди — в полосатой.
Труп Шеломина лежал на полу, под рогожей, в избе, где помещался околоток.
Санитар подал розовый конвертик.
— Его благородию, — кивнул он. — С первой роты.
Врач, несколько полный блондин, с усталыми голубыми глазами, разорвал конвертик. Он хотел узнать адрес близких молодого офицера, сберечь для них труп.
Письмо было переписано набело, без единой помарки, ровным старательным почерком. Мелькали ровные фразы. Санитар докладывал:.
— Гуси эта летели. И откудова взялись!.
„Прости . Долго не писала, потому что не было сил".
— Ну, тут наши палить, немец палить, гусь-то и упал промежду
окопов.
„Не считай меня своей. Я знаю, это для тебя большое горе: но иначе не могу".
— Ну, тут наши лезут и немцы лезут. Человек с десять, знать, подстрелили…
«Желаю тебе счастья… Твой друг…»
— Ну, все же, гуся наши зажарили!
Врач опустил руку, медленно смял бумагу, бросил в помойное ведро с кровавыми отбросами, распорядился:
— В братскую.
-------------------------
Через месяц, во второй раз, в газетах появилось, имя Шеломина. На этот раз позади текста, петитом, цифрой в числе потерь.
Директор с гордостью сказал:
— Смертью храбрых!
Наталья Андреевна не сообразила. Наталья Андреевна ждет, пишет трепетные материнские письма, раскладывает пасьянс „Государственная дума", строгая, сосредоточенная, восковая, думает: „Если -- сойдется, значит Толичка вернется". Пасьянс не сходится. Тогда быстро-быстро, озираясь, она достает нужную карту, радуется, что никто не заметил. На восковом лице выступает дуновение румянца:
Анютин купил свечку, хотел поставить перед угодником. Не знал, как еще почтить память о друге; но вспомнил попа Никольского и плюнул. Свечка растаяла в его черной от чугуна и мазута руке.
Никольский стал часто заходить к Наталье Андреевне. Он напутствует, присматривается к домику.
Возвращаясь, Никольский, по привычке, бормочет:
— Не долго проскрипит старушенция, не долго.
И ясно улыбается.
----------------------
Надгробная речь была на братской могиле.
Перед отпеванием, корявый ратник, рыбак из под Колывани на Оби, с потрескавшейся, ромбами, как у слона, шеей, прилаживал крест, думал, когда наконец выпустят его из. чертовой Польши и, чтобы спорее шла работа, непрерывно ругался.
Дьячок, вятский, лениво останавливал:
— Чо выражаешься? Здесь убиенные, а ты.
Ратник бросил топор, открыл рот, утерся.
— Да рази это матеряк? — искренне удивился он. — Вот если там, примером, в душу. А то это так только, божье слово.
Примечания
¹ Cоюз русского народа -- черносотенная монархическая организация, созданная в октябре 1905 г. при активном участии властей для борьбы с революционным движением; использовала антисемитизм в качестве основы своей идеологии.
² цеппелины – военные дирижабли конструкции Фердинанда Цеппелина, применявшиеся немцами в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
³ начал с «яиц Леды» -- т.е. с самого начала, издалека; происхождение выражения – древнегреческий миф о Леде — дочери царя Этолии, в которую влюбился Зевс. Он явился к ней в виде лебедя, и в результате этого свидания родились из яиц -- Елена, из-за которой началась Троянская война, и ее братья, близнецы Кастор и Поллукс. Отсюда «яйца Леды» как символ начала чего-либо, его первопричины.
⁴ эс-дек -- социал-демократ, член РСДРП.
«Сибирские огни»,1923г. № 5-6, стр. 3-28.
В Л А С Т Ь
Представление в одном действии.
Зал в центре дворца. Неизъяснимый яркий свет. Великолепие.
На стенах портреты старинных королей и придворных.
Резким контрастом к ним, за большим столом, очевидно принесенным из другой комнаты, одетые в черные сюртуки и фраки, совещаются министры. Все они находятся под влиянием доклада П р е м ь е р а, каждый по-своему выражая скрытое волнение. М и н и с т р ф и н а н с о в олицетворяет мыслителя, взявшегося за неразрешимую проблему. М и н и с т р ю с т и ц и и то берет со стола свой портфель, как будто бы вот-вот собирается уйти, то опять кладет обратно. Только П р е м ь е р, высокий седой старик, сохраняет на каменном лице невозмутимое спокойствие. С е к р е т а р ь сидит в стороне, иногда что-то записывает, но чаще ничего не слушает и вздыхает.
П р е м ь е р. На этом, джентельмены, я окончу свой доклад. (Медленно собирает разбросанные на столе документы и заметки, складывая в портфель. Молчание).
М и н и с т р ф и н а н с о в. Итак, надежды нет.
П р е м ь е р. Да. Армии больше нет. (Молчание).
М и н и с т р ю с т и ц и и. Теперь, надеюсь, вы вспомните то время, когда я, один против всех, защищал монарха. О, то была власть!. Пусть преступная, пусть жестокая, но – власть. пред которой трепетала эта, царящая теперь нечисть. То было нечто безусловное, рожденное веками в народной вере, как святость, как справедливость!.
(Встает). В последний раз я обращаюсь к вашему разуму и предлагаю мой единственный выход, единственное спасение.
М и н и с т р ф и н а н с о в. Fiat justitia, pereat mundi!* Так, так. Но будет слов. Во-первых, на этот трон дурака не найти, а во-вторых, золота все равно не прибавить. А власть – золото!
М и н и с т р ю с т и ц и и. Так что-же? Опять ждать?. Чего? Должны же мы понять, что красная чума опаснее всех зараз. С чумой можно бороться, лишь сжигая зараженных животных! (Молчание). Враги занимают за зданием здание. Только еще сюда, во власти неисчезнувшего очарования, они не осмеливаются проникнуть. А мы, вместо того, чтобы действовать решительно, -- управляем дворцовой стражей, которая, быть может, нас завтра выдаст!.
П р е м ь е р. (с едва уловимым оттенком насмешки). Сегодня ночью. У меня есть неопровержимые данные, доказывающие, что сегодня ночью они предпримут решительный штурм дворца.
М и н и с т р ю с т и ц и и. Сегодня ночью! Может быть, сейчас. Небо!
(Почти истерично). Так что-же вы молчите? Где же выход!. Выход!.
М и н и с т р ф и н а н с о в. (Премьеру) Потерять дворец – потерять власть!
П р е м ь е р ( поднимая голову). Я – предлагаю мир.
М и н и с т р ю с т и ц и и. Мир?!
* Да свершится справедливость, даже если погибнет мир! (лат.)
М и н и с т р ф и н а н с о в. Мир с кем?
П р е м ь е р. С «товарищем Петром».
С е к р е т а р ь (очнувшись, пододвигается к ошеломленному министру юстиции). Пьер! Наконец, я опоздаю! Смотри темно. Я говорил тебе, ты помнишь?. та нежная, как сон, мечта моя, -- сегодня у меня с ней первое свидание. Кончайте как-нибудь и выручай! Клянусь тебе – услуга за услугу.
М и н и с т р ю с т и ц и и (отмахиваясь).Какие там любви и незнакомки!
С е к р е т а р ь (удивленно). А – серьезно разве?
М и н и с т р ф и н а н с о в ( П р е м ь е р у ). Какие шутки!
П р е м ь е р. Что, испугались?. ха-ха-ха! (Внезапно встает, изменившийся, бледный, с огромной силой говорит). Да, -- я предлагаю мир с вождями бродяг и черни! Лишь слепые еще не могут разглядеть, что власти нет и не может быть иной, чем всепоглощающая вера в их сладкий обман, в их сказку и евангелие, что светлый рай снова будет здесь, здесь на земле, рождающей из черной грязи смешанный с кровью хлеб. Стоит только беднягам самим взять власть в свои руки! Власть! Ведь они думают, что ее действительно можно «взять».Но они верят! Больше, чем в Бога! Я видел, каким огнем горели их глаза, когда, словно проповедь Иисуса, они ловили пустые фразы. Да, это – сила! Великолепие королей, орган то едва слышный, то огромный, как облачное небо, гипноз латыни и золотое распятье, и золотой огонь, -- ничто пред их кровавым стягом, превращающим толпу бродяг в самую дисциплинированную армию мира! С нашей стороны было бы непростительной ошибкой, в такое время не использовать эту силу. Мы должны и можем повернуть ее в свое русло. Я убежден, вовсе не только нам, но и каждому из этих трех главарей совершенно ясно, что легко лишь о б е щ а т ь, что каждый раз, когда они на самом деле представляют себе «захват власти», они дрожат и пугаются, как беспомощные дети.
(С невольным благоговением). О, государственная власть – не власть бандитов над своей шайкой. Так почему бы не сговориться? Пусть царствует их босяцкий совет, пусть царствует, но – как король английский – не управляет. Они для масс будут знаменем, красной тряпкой, фетишем, сказочным Иваном Царевичем, -- словом заполнят пустоту, образовавшуюся после падения монархии. Да, будут новые слова, новые законы, новые идолы. но управлять государством будем м ы, как прежде, как всегда. Может быть, пожалуй, на новую приманку потребуется больше денег, но зато, говорю вам, никогда еще в наших руках не будет такого послушного народа, такого небывалого могущества.
М и н и с т р ф и н а н с о в (возбужденно). Но согласятся ли они?!
П р е м ь е р. Я говорил, я убежден , что главари сами пойдут навстречу. Конечно, здесь необходимо искусство, и я прошу уполномочить меня единолично.
М и н и с т р ю с т и ц и и (внезапно поняв все). Я согласен! Мир!.
С е к р е т а р ь. Мир? Я могу теперь идти?. Высокое собрание окончилось?
П р е м ь е р. Прошу вас, джентльмены, удалиться всем и ждать моих распоряжений. (Делает вид, что кланяется). Спокойной ночи.
Министры уходят; в дверях слышны восклицания: «Он сможет!». «Уступят». «Я убежден!»
С е к р е т а р ь. Я протокол представлю завтра. (Напевает). Мечта моя!.( Уходит).
П р е м ь е р (подходит к огромному окну, всматриваясь вo мрак) . Какая ночь! И каждый раз все глуше.
Тишина. Молчание. Изредка долетают глухие отголоски выстрелов. Усилием воли стряхнув влияние ночи, П р е м ь е р подходит к аппарату. Раздается тихое ответное гудение.
П р е м ь е р. Старые казармы? Мне нужно. председателя Революционного Совета.
Г о л о с. Кто говорит?
П р е м ь е р. Дворец. (Молчание).
Г о л о с. Я жду.
П р е м ь е р. Я уполномочен правительством страны. вступить с вами в переговоры о создании новой власти. Я искренно надеюсь, во имя блага родины, вы сумеете подавить в себе ненужные волнения и придете переговорить со мной. Я буду ждать вас во дворце и я ручаюсь.
Г о л о с (перебивая). Как! Я должен прийти во дворец? Какое счастье!. Однако, я принужден разочаровать вас. Совет предвидел, что вы «запросите пардону» и обсуждал этот вопрос. Мы постановили не вступать ни в какие переговоры, пока берлоги королевской дворни все еще полны наемниками. Вам, конечно, должно быть известно, что постановления Совета я изменить не могу. « Честь имею кланяться», как говорится в порядочном обществе.
П р е м ь е р (быстро). Одну минуту. Ваши условия?. Какие бы они ни были!
Г о л о с. Ах, вот как?. Хорошо. – Сегодня же дворцовая стража должна быть распущена. Сейчас же! Охрану примут наши войска.
П р е м ь е р (Невольно придерживая рукой сердце). Ах, вот как. (Молчание; потом громко). Хорошо. Я согласен.
Г о л о с. Согласны? Вы!. (Молчание). Что ж, вы – благоразумны: итог, ведь, все равно был бы таким же, но вы сохраняете нам несколько сотен жизней; поэтому, если вы не кривите душой, я первый подам вам руку.
П р е м ь е р. Я отдаю приказ.
Г о л о с. Буду верить. До свидания.
П р е м ь е р (выключая ток). Негодяи! (Подходит к другому аппарату). Дежурный? Немедленно ко мне начальника стражи. Какой ваш номер? Вы отвечаете за каждую минуту. Так.(Встает). Мы еще посмотрим!. (Странно внимательно осматривает дворцовую залу; останавливается на старинном портрете прекрасной аристократки). В ее глаза заглянет чернь!. И будет хохотать над обнаженной грудью и . нет, лучше . (идет к портрету).
Входит Н а ч а л ь н и к С т р а ж и .
П р е м ь е р. А!. Мой милый Гарри. (Идет навстречу, жмет руки). Плохие времена. (Молчание). Как долго мы можем продержаться?
Н а ч а л ь н и к С т р а ж и . Их больше в десять раз.
П р е м ь е р. Да, да. Я знаю. Гарри, ты мне веришь?
Н а ч а л ь н и к С т р а ж и . Какой вопрос!
П р е м ь е р . Прости. (Колеблется). Так значит нам не выдержать?
Н а ч а л ь н и к С т р а ж и . Я говорил.(Молчание).
П р е м ь е р. (громко). Так сейчас же сними все посты и заставы! Сложи все оружие в арсенал и скажи солдатам, что армии больше нет. Пусть идут к своим бабам! Но офицеры. Офицеры тоже пусть разойдутся, но не теряют связи.
Н а ч а л ь н и к С т р а ж и . (темнея) . Значит. – на милость?. Без боя!
П р е м ь е р. Гарри! Я думал, ты мне веришь. С твоими солдатами ничего не сделать. Солдат больше у них. (Подходит ближе). Слушай. Отбери самых надежных людей. Пусть бегут во все кварталы с вестью, что дворец взят! Дай им бутылки с лучшим вином: пусть всем рассказывают, что взяли его здесь. Дай им золота – лучше всего те безобразные золотые блюда, на которых подданные приносили «хлеб-соль». Дай им жемчуга и драгоценных камней, -- пусть горланят: «Во дворец, кто хочет получить что-нибудь, пока Совет не поделил между собой остатки»!.
Н а ч а л ь н и к С т р а ж и . Но ведь сюда ворвется эта. сволочь!
П р е м ь е р. (взглядывает ему в глаза; начальник стражи каменеет).Ты понял?. Скорее, Гарри!
Н а ч а л ь н и к С т р а ж и . Мой долг повиноваться. (Уходит).
Слева, в нише, отделенной старинным экраном и тяжелой тканью, появляются Э л е н и С е к р е т а р ь .
С е к р е т а р ь . Мечта моя!
Э л е н. Нет, нет! Только не теперь: муж ищет меня по всем комнатам. Я должна его успокоить. Я скажу, что я уезжаю к княгине Вере. Тогда, ровно в двенадцать, мы встретимся снова. И мы будем совсем, совсем одни.да? (протягивает руку для поцелуя).
С е к р е т а р ь . Мечта моя!.( Уходят).
Премьер медленно идет к рабочему столу, берет перо и задумывается. Молчание. В глубине сцены проходят Э л е н и М и н и с т р ю с т и ц и и .
Э л е н. Пьер, как ты не можешь понять, что мне страшно! Весь низ полон солдат, они требуют вина и, представь себе, им дают сколько угодно.
М и н и с т р ю с т и ц и и . (замечает Премьера). Ч-ш-ш! (Молчание).
В раскрытые двери входят Петр и несколько солдат, или вооруженных рабочих. Внезапно останавливаются, подавленные великолепием. Петр медленно идет вперед, поглядывая на изумительные фрески и портреты, на темные мраморные колонны и покрывающий весь пол темно-красный ковер, где совершенно тонут удары его солдатских сапог. Премьер, заметив врага, слегка вздрагивает, но, быстро овладев собой, идет навстречу.
П р е м ь е р. (любезно). Так скоро?
П е т р. (очнувшись). Да. «на плечах врагов», как говорится в газетах.
П р е м ь е р. Надеюсь, «враги» не причинили вам на этот раз неприятности?
П е т р. Нет, вы точно выполнили всё. (Протягивает руку). О чем же мы будем говорить с вами, господин министр?
П р е м ь е р. Полагаю—тема ясна. В первый раз в истории мира мы говорим, как равный с равным. И мы нашли, что для создания твердой власти будет справедливо привлечь вас к участию в управлении страной.Я думаю, с вами мне не придется говорить обычным языком. Скажите просто: сколько мест в будущем министерстве просит ваша партия?
П е т р. О, -- ни одного! Боюсь, у нас другая справедливость: никаких нам мест и министерств не надо. Власть – трудящимся!.
П р е м ь е р. Безумие! Я знал, но я не верил и теперь не верю, что вы можете серьезно исповедывать вашу программу. Программа есть программа. Народ, как ребенок, любит звонкие побрякушки; -- но государственная власть.
П е т р. Довольно, господин министр. Убеждать друг друга нам бесполезно. А торговаться.
П р е м ь е р. (перебивая). Я знаю только ту великую ответственность, какая лежит на нас и великую, убивающую меня горечь, когда я думаю о судьбе государства!
П е т р. Жандармов, может быть, и тюрем?
П р е м ь е р. Сейчас вы не оскорбите меня, молодой человек. Нет. Мне все равно. Не дорога, для старого калеки, жизнь!. Но вы, став на грань власти, должны понять, что в тот же миг, как вы объявите свой сброд владыкой, сувереном, он ринется сюда и уничтожит всё: культуру, радость творчества, науку. Он променяет на еду позолоту вот этих рам, а из картин нарвет портянки, счистив краску.
П е т р (вздрагивая) . А кто, кто сделал его таким? Вы трусите его стихийной мести!
П р е м ь е р. Я – не боюсь. Я ухожу из мира. В ы должны бояться. В а м надо будет жить в пустоте разрушения, если вы позволите разграбить дворец!
П е т р (с внезапным состраданием). Ну, ну. – успокойтесь. Никто, ведь, не собирается грабить. Ни одной безделушки мы не сдвинем в этом . музее. (Неожиданно). А, правда, говорят подвалы дворца полны взрывчатыми веществами?
П р е м ь е р. Да, там, под правой башней, есть запасы.
П е т р. Под правой башней .
П р е м ь е р. А если бы чернь захотела вернуть то, что по вашим словам – «ей же создано»? Ведь вы об этом кричали на каждой площади! .Ваша стража стала бы стрелять … в народ?
П е т р. Оставим это. Я жалею, что .
П р е м ь е р. Оставим? Нет! Скажите, -- вы говорили им, что дворец уже взят?
П е т р. Что же, вы, думаете что мы будем из победы делать тайну?. Но – прощайте; я жалею, что заставил вас волноваться. Повторяю, Революционный Совет не забудет, что в последнюю минуту вы, мне все равно из-за каких побуждений, спасли сотни солдатских жизней . Крови было без того довольно . Прощайте! (Хочет идти).
П р е м ь е р. Куда вы? Они убьют вас!
П е т р. Очнитесь же!. Я вам пришлю врача.
П р е м ь е р. Нет, -- вы очнитесь! Вам надо лечиться – от слепоты . Смотрите!
Быстрым движением гасит свет. Вверху горит слабый зеленовато–голубой фонарь. В центре сцены, на перламутровом экране появляются очертания дворца.
П е т р. Что это?
П р е м ь е р. Экран.
П е т р. Дворец!. Внизу двигаются люди . Опять какой-нибудь обман!
П р е м ь е р. Наука . Слушайте!
Молчание. Вдруг, как бы из-за экрана, раздаются ясные, несколько неестественные голоса.
-- Взяли, а нам не дают.
-- На всех не хватит. Сами хотят поделить.
-- Ну, уж нет!. А много там солдат?
-- Мало. Половина пьяные.
-- Пьяные! У них настоящее вино?
-- Вино?!
-- Да еще какое! Я видел одну бутылку. Она была липкая и холодная, а внутри – желтый огонь. Во мне так все и перевернулось. Её шейка была серебряная и надпись золотая – точно невеста! Самые мудрые монахи выдумали это вино . А монахи знают толк!
-- Ты пил, что ли?
-- В том-то и дело!
Молчание.
-- Все-таки нехорошо пить вино . И когда я об этом подумаю, что вся моя жизнь пропала из-за вина, становится так скучно и тошно, что поневоле пойдешь в кабак. Но вот горе! Совет закрыл все кабаки. И зачем это им столько вина?
-- А много его?
-- Бочки! Тысячи бочек!
-- А еще что?
-- Ого!
Молчание. Двигаются быстрее.
-- После вина делается так хорошо. Я видел в окно девушку. Она не как наши. Это, вероятно, принцесса.
-- Дурак! Принцессе отрубили голову.
-- И королю. (Исчезают в темноте у стен дворца).
В освещенном пространстве, в лучах падающих из окон, появляется темная, фантастически вооруженная толпа. Впереди высокий человек с обнаженной головой. В левой руке – знамя, кажущееся черным. Вдруг раздается несколько выстрелов.
П е т р. Слышите? На самом деле – выстрелы!
П р е м ь е р. Это – ваши. «народные». Смотрите!
П ь я н и ц а (вбегает, задыхаясь; замечает кровь на рукаве). Стреляют!
П р е д в о д и т е л ь. Слышите?! Ваш «товарищ Петр», он же -- жид Фишер,
изменил народу: его наемники стреляют в народ. Долой Петра!
В т о л п е. Долой!. Долой!.
П р е д в о д и т е л ь . Мы сами себе избавители! Мы сами себе – Мессия!
Зачем нам вожди, которые хотят только власти, чтобы душить нас? Вы видели – он стрелял в народ! Но мы не испугаемся тебя, предатель! Мы еще обольем смолой твою черную харю!
В т о л п е. Верно!. Мы сами!. Да!. Вперед!. Смерть!.
П р е д в о д и т е л ь. Вперед!
П ь я н и ц а (хнычет). Нет, я лучше пото-ом.
П р е д в о д и т е л ь .Ну!
П ь я н и ц а (хнычет).
П р е д в о д и т е л ь. Нам не надо изменников; но еще хуже бабье и трусы. Выбросить его в канаву!
Двое, стоящих рядом с предводителем, быстро отделяются на глазах загипнотизированной толпы.
П ь я н и ц а (внезапно). Хорошо!. Но по закону вы должны сперва дать мне одну бутылочку. Когда меня хотели вешать королевские слуги, меня славно напоили.
Двое схватывают пьяницу и поднимают над перилами.
П ь я н и ц а (цепляясь). Зачем вы взяли меня из тюрьмы? Там бы меня славно напоили.
П р е д в о д и т е л ь. Ну!
П ь я н и ц а (кричит). Только одну буты-ыл!.
Тяжелый всплеск.
П р е д в о д и т е л ь. Видели! То, что я вам дам, стоит не одной, а миллионов жизней. Я дам вам – власть. Власть народа! Верьте мне: во все времена счастливы были только те, кто умел брать, а те, кто ждал, что им дадут – оставались нищими. Вы – нищие! Вы жрете шелуху картошки, у вас только бумажные деньги, на которые, кроме женщин, ничего не купишь, а во дворце –золото!
В т о л п е. Золото!
П р е д в о д и т е л ь. Всемогущее золото!
В т о л п е. Все тарелки золотые!
-- И ложки.
П р е д в о д и т е л ь. Весь дворец золотой!
В т о л п е. Весь дворец!
П р е д в о д и т е л ь. И – золотое вино!
В т о л п е. Вино! О – о – о – о!
П р е д в о д и т е л ь. За мной все страждущие, трудящиеся и обремененные! За мной!
Крики. Экзальтация. Движение. Рев. Премьер включает свет. Видения исчезают.
П р е м ь е р. Ну.что?
Тишина.
П е т р. Ложь! Все ложь! (Быстро идет к выходу).
П р е м ь е р. Так спешите вложить ваши персты в еще свежие раны. (Беззвучно смеется). Молокососы!
Входят, сталкиваясь с Петром, два других члена Революционного Совета:
К а н д и д и Г е н к е л ь. Позади них – наряд солдат.
К а н д и д. Петр! А мы тебя ищем по всему городу: замучили телефонистов. Там, брат, кутерьма.
Г е н к е л ь . И кто это разблаговестил так скоро!
П е т р . Кто? Кто опять против нас?. Да сколько же у нас врагов? Когда конец .
К а н д и д (удивленно). Ты что. – боишься?
П е т р (овладев собой). Ну, чёрт!
К а н д и д. На этот раз враги, брат, вино и золото. Опасные ребята!. Изголодались, брат. – Требуют, чтобы немедленно свершились обещанные Генкелем чудеса. Народ – всегда народ.
Г е н к е л ь (нервно ходит взад и вперед). Шутить не время. Надо действовать!
П е т р . Командир гаванского района здесь?
К о м а н д и р (выступая). Здесь!
П е т р . Где твой отряд?
К о м а н д и р. Я всегда вместе с ним, товарищ.
П е т р. Проверить посты. Занять все выходы. В окна – пулеметы.
П р е м ь е р. Пулеметы?
Г е н к е л ь. Нет! Я протестую; мы не .
П е т р. Молчи! Я командую армией ! Я приказываю! (Командиру). Все ясно?
К о м а н д и р. Есть! (Уходит).
Г е н к е л ь. Но, пулеметы?!
П е т р. Ну, предлагай тогда свой рецепт на спасение.
Г е н к е л ь. Я . Я затрудняюсь. Но надо обсудить!
П е т р. Что там обсуждать. Мы в западне.
Молчание.
К а н д и д (увидев прекрасный портрет,едва слышно). А, легендарная! Так вот где я тебя нашел.(подходит ближе).
Г е н к е л ь. Что же делать?. Где выход?
К а н д и д. О ком поэты пели лучшие стихи. Чьи страшные любовь и холод рождали огненные пытки творчества .
П е т р (услышав). Кандид! (Отдергивает его).
К а н д и д. Взгляни, как прекрасен этот лоб, эти губы.
П е т р. Проклятая приманка!
За сценой глухие короткие очереди пулеметов и неясный гул.
П р е м ь е р.(подходя). Слышите?. Уже!
Г е н к е л ь. Да,да. Мы -- подражаем императорским жандармам! Мы – избранные теми, кого сейчас пронизывают пули! Чем все это кончится?!
П е т р . Так отдадим дворец! Пусть грабят: сначала здесь, потом друг друга, пока, кто посильнее, не заберется снова на знакомый горб.
Г е н к е л ь. Нет, -- не то.
П е т р . Что же по-твоему есть -- власть?
П р е м ь е р (повышая голос). Сегодня власти нет. И потому, кто не лакей черни, обязан все отдать, чтобы ее восстановить. Без власти государства нет! Гибель!
К а н д и д. (насмешливо). А ну, послушаем старую крысу, -- кто знает, как это сделать?
П р е м ь е р (бледнеет, но сдерживается). Я знаю.
Г е н к е л ь. Почему же вы молчали?!
П р е м ь е р. Я говорил сегодня вашему коллеге (указывает легким кивком на Петра), что есть единственный выход из создавшегося положения, один способ восстановить власть. Необходимо было бы образовать коалицию из состава законного правительства и членов Революционного Совета., но ваша партия все предрешила принципиально и потому .
Г е н к е л ь (поспешно). Что решено, то всегда можно перерешить.
П е т р (бормочет, отражая крайнее напряжение мысли). Так вот в чем дело!. Так . так . Внизу, под правой башней . (Вдруг, охваченный страшным вдохновением, бросается к задумавшемуся Кандиду). Кандид, ты -- художник?
П р е м ь е р (все время не спускавший с них глаз, решительно подходит к Генкелю). Я вижу, вы дальновиднее других. Я хотел бы переговорить предварительно только с вами. (Отводит его в сторону. Они ходят по залу от авансцены вглубь. Слышатся отдельные слова: «Доверие масс» . «Синтез мудрости и силы» . «Народное государство» и т.п.).
П е т р . Скажи, если бы тебе пришлось выбирать: либо должно погибнуть величайшее творение знаменитого, признанного гения, либо умрет молодой, совсем еще неизвестный художник?
Молчание.
К а н д и д. Святотатство убивать только нерожденное. Кто раз рожден, тот не умрет. Разбитая статуя для меня жива и будет вечно жить – во мне, в тебе, в бесчисленных воспоминаниях и копиях. Все мое искусство я отдал бы за жизнь одного ребенка. Лишь то, что убито вместе с гением, -- никогда не воскреснет.
П е т р (хватает его руку). Ты решил судьбу Мира!
П р е м ь е р (все время с нечеловеческой волей, владея собой). Пора перестать заниматься пустяками. Постреливая лишь в смельчаков, которые ближе других подходят к винным бочкам, мы только дразним зверя. Необходимо открыть настоящий огонь и рассеять чернь. (Молчание). Подброшенное полено гасит начинающий загораться костер . Но если б это сделали вы, толпа завтра же потребовала ваши головы. Я беру все на себя. Мы немедленно объявим, что это я, член новой власти, приказал стрелять. Они ко мне привыкли. Они простят или забудут, как сотни раз. И через день,ручаюсь, мы снова станем сильнейшим государством.
Г е н к е л ь. Я согласен!
Молчание.
П е т р (отвернувшись). А я, дурак, думал, что он хотел спасти солдатские жизни. Ах, дурак!. (Командуя). Кто со мной – сейчас уходи!
К а н д и д. Идем.
П е т р. Кто останется -- погибнет, как предатель.
Группа у дверей быстро уходит. Генкель остается.
П р е м ь е р. Молокососы! (Генкелю). Теперь, скорее, идите на балкон, вот в эту дверь, и скажите. что «товарищ Петр», он же жид Фишер, изменил народу, что каждый, кто его встретит, должен убить на месте, что образована правительственная власть. Ну, да, идите же! Вы, ведь, считались у них лучшим оратором, -- потому и попали в Совет .
Генкель машинально выходит. Премьер закуривает сигару, усталой улыбкой кривя тонкие губы, бормочет презрительно: «молокососы». Садится в глубокое мягкое кресло, закидывая голову и вытягивается. Бесшумно вбегает Кандид, схватывает любимый портрет и скрывается обратно. В нише появляются Э л е н и С е к р е т а р ь.
С е к р е т а р ь. Дорогая.наконец -то!
Э л е н. Милый, как я соскучилась. (Объятия. Элен опрокидывается на подушки. Входит Генкель).
П р е м ь е р (поднимая голову). Ну,что?
Г е н к е л ь. Я еще. Я подожду немного. Я еще ничего не сказал. Дайте мне успокоиться!
П р е м ь е р ( уже с нескрываемой злостью). Да, выпейте воды! (Сует Генкелю графин) Пророки! Чуть ли не новой расой провозгласили себя, а куда вы годитесь? – потомки сифилитиков и пьяниц.(Повышая голос) Теперь вы не должны забывать, что я глава правительства, в состав которого входите и вы. Я вам приказываю, господин министр, исполнить ваш долг. В такие минуты время не теряют. (Ободряя) Ну, -- идите!
Г е н к е л ь. Да,да . Что я должен сказать? Ах, да. пархатый жид! (берется за ручку двери).
Э л е н (задыхаясь). Милый, милый .
Секретарь начинает осторожно поглаживать паутинный чулок. Мелькает полоска обнаженного тела. Вдруг непредставимый взрыв, огромный огненный смерч, поглощает сцену. И через миг -- тьма, хаос, грохот. Потом, постепенно, наступает долгая тишина. В тумане осенней ночи появляются подводные светляки фонарей. Серые фигуры солдат бродят по каким-то неровностям; быстро и молча идут; мелькают носилки санитаров. Когда бледный рассвет начинает рассеивать мрак, сцена оказывается загроможденной гигантскими обломками. Рядом спит смена солдат. Работающие солдаты иногда обмениваются негромкими возгласами: «Здесь», «тащи», «сюда» и т.д. . Утомление преобладает на всех лицах. Вдруг врывается резкий, ясный звук трубы. Солдаты мчатся на ее зов. Всюду крики:
«Стройся!. Стройся!» Сцена быстро наполняется народом.
Р а б о ч и й (грозя куда-то выше развалин, как будто все еще видит дворец). Так тебе и надо, зараза!
В т о р о й. Эх, углей сколько! (Мальчику). Сень, беги за мешком. Только смотри, что другое найдешь -- солдату отдай.
П е р в ы й. Углей?. А может нашего брата на этой самой перекладине вешали, с которой угли?
В т о р о й. Стой, Сень. Самовар нечем разжечь. Да, пропади они пропадом!
В е с т о в о й (подходит к командиру гаванского района). Товарищ командир!
К о м а н д и р. А! Ну, объехали город?
В е с т о в о й. Наш район, товарищ. По пути попались два патруля, тоже, говорят, везде тишь.
К о м а н д и р. Понятно. Как разнесли эту чертовщину, так народ стал народом . Ладно, скажи своему начальнику, чтобы всех отпустил в казарму: нечего зря лошадей гонять. (Уходит).
С противоположной стороны вбегают небольшими группами и поодиночке вооруженные солдаты. Они подстраиваются, рассчитываются; раздаются слова команды.
С е н я (вбегает с куском жареного мяса). Тятька! Лошадь там зажарилась! Ох и скусна!
Большинство из толпы бежит за Сеней.
С е н я. Ох и жирна!
Вдруг пробегает возбужденный гул: «Идут. идут!». Толпа останавливается. Начальник отряда командует: «Смирно!». Входят члены Революционного Совета. Под фуражкой Петра белая повязка.
П е т р. Вольно!. Товарищи, сегодня в городе нет другой власти, кроме власти тех, кто сам держит винтовку и молот. И почти из всех городов мы получаем такие же вести – везде рабочая власть!
Э х о в т о л п е. Наша власть!
-- Ура!
П е т р. (покрывая крики). Но это еще не победа!. (Голоса угасают). Враги еще скалят зубы на вырванный кусок. В лесах еще бродят волчьи стаи. Еще рабы в колониях гнут костлявую спину, умножая тухлый жир богатства. Мы свободны и потому должны освободить всех. Мы понесем наше знамя во все страны. Все вперед и вперед!
Э х о в т о л п е. Все вперед и вперед!
П е т р. Если надо, даже Сибирь пройдем от края до края и не устанем. И вы, кто остается, несмотря на голод, на века неволи, победив – побеждайте усталость. Отдых будет после последней победы. Теперь же, во что бы то ни стало, -- стройте! Ночью мы взорвали дворец, чтобы выжечь гниль наших душ, зараженных рабством . Но вместе с дворцом погибла красота. Плечом к плечу, удар за ударом, освобожденный труд – всемогущ. Чтобы вновь бессмертным стал прекрасный подвиг, мы сбережем его, выстроив Новый Дворец!
Э х о в т о л п е. Новый Дворец!
П е т р. Когда же мы победим и вернемся, начнем наш последний штурм – штурм неба.
Э х о в т о л п е. Неба!
-- Все вперед и вперед!
-- Все выше и выше!
П е т р (солдатам). Через Сахару, через Гоби, через дебри и степи, за Гималаи, за океаны – Красная гвардия – М а р ш !
Команда. Крики. Движение. Музыка. Экстаз . Сцена пустеет и опять наполняется новыми толпами. Вдруг с непонятной быстротой, в руках появляются заступы, ломы, топоры, кирки. Перекликаются бодрые голоса. Кто-то восторженный и длинноволосый мелькает по обломкам и кричит ликуя: «Товарищи! – вот здесь сначала . здесь расчистить!. вот так . вот сюда».
П е т р (Кандиду). Теперь прощай, друг. Ты должен остаться. (Взмахивает рукой – куда ушли солдаты) . А если не вернусь (сжимает руку), огонь, зажженный в душах, не умрет . (Быстро, по-мужски, целуются).
К а н д и д. Взгляни на них . (Входят на мраморную глыбу).
В толпе глухие удары и рабочие крики. Несколько голосов, едва слышно, задыхаясь, напевают: «Своею собственной рукой» .
К а н д и д. Огонь, горящий в душах, не может не победить!
Дым тлеющих балок, как жертвенные огни. Над обломками – знамя революции. Петр снимает фуражку. И ярко, как знамя, горит кровь на белой повязке.
Сибирские огни, 1922, №4, С. 59-67
С О Н Л Ю Ц И Ф Е Р А
Глава из романа "Конец страха"
В аудитории был сумрак. От лекции по физике остались: электрическая машина, катушка Румкорфа1, батарея аккумуляторов, На чёрной доске – седой спокойный строй формул. За окнами - серый, с примесью гранита, петербургский туман. Перин смотрел на холмики октябрьских листьев, на курсисток, сновавших напротив, многочисленных, как листья. Студентов было мало. На желто-чёрной лестнице скамеек согнулось несколько волосатых очкастых фигур. Бракованное пушечное мясо.
Иван Перин был строен, смугл, высок. Раненый бескровный прапорщик изредка охватывал его коротким ненавидящим взглядом. В дверь просунулась яростная голова, плечо в серо-коричневой шинели с цветными спиралями вольноопределяющегося. Перин узнал Михайлова. Солдат отрывисто крикнул:
-- Ванька! Идиоты! Сегодня выступление гарнизона, а они . какие-то лекции!
Рядом, рассеянно бормоча извинения, появился профессор психиатрии.
-- Андрей! -- позвал Перин.
В ответ в пустынном коридоре загремели железные подковы солдатских сапог.
-- Какое опять выступление? -- нагнулся к Перину студент в очках, длинноволосый и бородатый. Борода придавала его круглому бабьему лицу противоестественный вид.
-- Как будто в первый раз! -- отмахнулся Перин.
-- Я боюсь, -- сказал бородач, -- что они сорвут наш вечер. Сегодня читает Маслов.
Перин вспомнил плакаты у входа. 7 часов вечера… 24. кружок поэтов.
-- Оранжерея -- пробормотал Перин.
-- Сегодня я продемонстрирую вам несколько больных, -- начал профессор.
Студенты замолчали.
-- Вот, прогрессивный паралич.
Служитель в белом больничном халате ввел под руку неряшливо одетого старика, вызывавшего в памяти какую-то отвратительную смесь кошмаров Достоевского.
- Ну, как Вы себя чувствуете, господин Фальковский? -- обратился профессор к больному.
- Великолепно! -- ответил тот, сгибая и разгибая волосатые руки.
- Поднимаю десять пудов одной рукой.
Сияя ужасающей радостью, старик вдохновенно заговорил о высшем благоденствии своего жалкого организма, начиная с богатырского пищеварения и кончая непосредственным общением с пречистой девой Марией.
-- Вот перед вами абсолютное счастье, «божественное блаженство», так сказать,
-- усмехнулся профессор. -- Путь к нему прост и демократичен: сифилис. Имейте это в виду, когда будете философствовать о разных высоких материях.
Развеселившиеся студенты вдруг замерли, В комнату вошла девочка лет двенадцати. Её лицо бледно-смуглого ровного цвета отражало предельную тоску. Страшно медленно из неподвижных глаз капали слезы. Профессор осторожно, ласково взял девочку за плечи.
-- Вероника! -- сказал он, наклоняясь, -- почему Вы плачете, что у Вас болит?
Слезы стали капать чаще.
- Так всегда, непрерывно, -- тихо оказал профессор, подходя к передним скамьям.
- "Мировая скорбь", как принято выражаться.
- Вероника! - повторил он громко.
Перин уловил где-то между тыловой частью своего черепа, профессором, катушкой Румкорфа и математическими формулами -- реторты средневековья, мантию алхимика, тоскующую царевну с громадными, как ночь, глазами. Чёрные рукава профессорского сюртука взмахивали всё чаще.
-- Вероника!
Девочка вздрогнула, опустилась на стул.
-- Ах! -- раздался слабый детский голос, -- здесь, здесь, здесь.везде.
Слезы падали каждую секунду.
В аудиторию бесшумно вошла женщина в белом халате. Она молча увела больную, прижимая чёрную головку, словно стараясь впитать в себя часть её смертельного горя. Профессор походил минуту перед классной доской и начал свою очередную лекцию о мозге и нервах.
Перин осторожно поднялся и вышел в университетский коридор. Вверху, в мути осенних сумерек, засветился тусклый ряд старых угольных лампочек.
Перин сел на скамейку и закурил. Из аудитории вышел раненый прапорщик. Перин снова уловил его неприятный взгляд. Коридор был пуст. Только у входа в библиотеку, расположенную в конце коридора, были слышны шаги. Перин встал и машинально пошел в том же направлении.
- Вы наш студент? - тихо спросил он, раскрывая книгу за одним столом с прапорщиком.
- Да -- ответил он… -- вернее -- бывший. А Вы почему не Бывший?
Рядом с офицером лежал блокнот, верхний лист его был покрыт вычислениями. Тусклое лицо рассекалось черной повязкой, закрывавшей левый глаз. Правый глаз, окруженный быстрой рябью скрытых судорог, горел темным напряжением. Под защитной гимнастёркой резко наливались сильные мускулы крепкого тела.
- Я оставлен при университете. А впрочем, я иногда думаю, что большое несчастье быть в стороне от событий.
- Ну, это другое дело, -- пробормотал прапорщик, светлея.
- Все мы теперь завидуем друг другу, словно люди разных миров. Видите, как меня хлопнуло "чемоданом"². Половина головы точно чужая. Как Вам понравилось «Божественное блаженство» и «мировая скорбь»? Я ведь, в сущности, из той же коллекции. Профессор лечит меня от контузии в нервном отделении своей клиники.
-- Что же, -- сказал Перин смущенно,-- контузия отразилась на Вашей умственной деятельности?
-- Н-нет, пожалуй, -- ответил прапорщик. -- Я могу заниматься. Только устаю, вот, страшно.
-- Хорошо, что Вы математик, -- это спокойная наука.
Офицер улыбнулся.
-- Вы знаете "апории" Зенона ³ ? -- неожиданно спросил он.
-- Не помню.
-- Ну, Ахилла Вы, наверное, знаете. Рассуждение заключается в том, что Ахилл, быстрейший бегун Эллады, никогда не догонит ползущей перед ним черепахи: ведь для того, чтобы догнать черепаху, Ахиллу нужно сначала добежать до того места, откуда начала ползти черепаха, но за это время и черепаха успеет продвинуться на некоторое расстояние вперед, и Ахиллу придётся бежать до этого второго положения черепахи и т.д., без конца, так что черепаха всегда будет впереди Ахилла. Так вот, для опровержения этой изящной головоломки потребовались головокружительные вычисления. И, по моему мнению, они всё-таки ничего не доказывают. Какое же тут спокойствие! А Вы -- юрист?
- Да.
- Я так и думал. Вот еще бесплоднейшая «наука»! Перин с любопытством наблюдал за своим собеседником.
-- Почему? - сказал он. -- Общественные науки имеют, надеюсь, большую ценность, чем всякие эти "апории" и "антиномии". Когда передо мной встал вопрос о выборе факультета, я думал: уже при современной технике труда одного человека достаточно, чтобы прокормить сотни и одеть тысячи, но люди и жизнь их полна ужаса, потому, что плохи пастухи, так сказать, -- право, нравственность, эстетика, -- пасущие людские стада. Вот куда надо устремить творческие силы человечества!
Одинокий глаз замкнулся весёлыми лучами.
-- Юношеские мечты, коллега! В том-то и дело, что если Вы укажете человечеству вернейший путь, Вас наверняка объявят врагом отечества, изменником, идиотом. Наука Ваша всегда была и будет лакеем власти: деспота или класса, так как истина в праве слишком опасная вещь для них. Когда же через кровь, трупы и вырождение придёт социалистический строй, всякие эти "законы" станут такой же игрушкой, как апории древних. Кроме того, я хотел Вам прочитать, напомнить, одно место из «Логики».
Он перелистал учебник.
-- Вот. Страница 269-я: «Об истинном бытии мы ничего не знаем и не можем знать ничего другого, кроме этой невозможности знания о нём, да еще кроме того, что в виде веры можно смело, без всякого опасения быть опровергнутым со стороны знания, проповедовать об истинном бытии (иначе, о вещах в себе, о ноуменах ⁴) всё, что хотим». Таково финальное достижение человеческой мысли. Нам целый год растолковывают это с кафедры. Что ж тут возразишь?
- Есть, всё-таки, возражения, - пробормотал Перин.
- Как! Разве мистики, мистицисты ⁵, интуитивисты ⁶ ?
- Нет, я имел в виду не эту нечисть.
- А, Ваш Энгельс в каком-то своем сочинении, насколько помню, действительно всунул цитату из этого общепризнанного олуха Гегеля: дескать, раз мы знаем все свойства вещи, мы знаем и саму вещь, а как только наши "чувства" обнаружили, что "вещь" находится вне нас, мы постигли последний "остаток вещи", то есть кантовскую “Ding in sich” *. Бедняга даже представить себе не мог, в чем тут дело!. Ах, всё это очень ясно. И все же, профессор каждый раз смотрит на меня поверх очков и записывает разные глупости о "крайнем самоуглублениии, когда я утверждаю «в виде веры» наиболее для меня приемлемое представление о жизни, как будто всё, что я говорю, логически отличается от так называемого "научного миросозерцания".
-- Каково же Ваше личное представление о жизни? -- несколько нетерпеливо заговорил Перин. Ему давно надоело студенческое философствование; но тем больше хотелось узнать о той страшной трагедии, которая почему-то угадывалась за чёрной повязкой прапорщика.
Чёрный глаз блеснул и вдруг наклонился вниз. Голос прозвучал тихо и медленно:
-- Знаете ли. я однажды почувствовал нестерпимый страх и я вспомнил.
------------------------------------------
* «вещь в себе» ( нем.)
Я падал в бездну, в бесконечность
С ужасной скоростью. Слились
В одно мельканье впечатленья
И снова скорби и томленья
Во мне проснулись. Бледный страх
Меня схватил, сдавил, замучил,
Лучи, огни, провалы, тучи
Пред мной стремились. Как удав
Взметнулась боль кольцом железным;
Мозг разрывала пустота.
И вдруг раздался хохот бездны.
Потом удар и темнота.
-- Чьи это стихи? -- спросил Перин.
-- Что? -- вздрогнул прапорщик. -- Чьи это стихи?. Мои! И все вымыслы, все призраки Данте, Шекспира, Гете, Пушкина -- мои ! Что?
Он снисходительно засмеялся.
-- Вы подумаете: "мания величия". Величия! В этом мире, который не больше и не сложнее атома, -- величие! А земное искусство: жалкий образ Фауста, прославленный идиотизм Гамлета -- величие! Что все это перед искусством сияющих цветов неба. Создавать из бесконечных лучей тысячи спектров, сверкающие сцены. Слепнуть в экстазе. Лететь. Мчаться. Побеждать!.
Он опять вздрогнул,
-- Простите, -- сказал он машинально. -- Моя мысль проста и очевидна. Разве этот мир не взорвался бы от своего горя, если бы он действительно существовал? Единственный раз я полюбил девушку. Она совсем не любила меня. И вот, вместо того, чтобы радостно пожать её руку, когда она полюбила другого, я мучился больше, чем смертельно раненый зверь, И звери выли во мне. Потом, у меня был ребёнок. Крошечный розовый мальчик, лепетавший: па-па-па-па-па. Я был счастлив. И вдруг он заболел. В каждой ложке молока, в каждом глотке скрывались звери, жадные и ядовитые, гораздо более страшные, чем тигры, мой мальчик растаял, превратился в скелетик, и в то время, когда я больше всего не верил в смерть, -- он умер. Мне было нестерпимо больно. Я не задумываясь отдал бы свою жизнь, чтобы он жил. Я мог примириться с моими страданиями, но разве можно мучить детей? Разве можно? Я был на войне. Это совсем не то, о чем пишут в газетах! Это очень чёрная скука. Очень большие походы. Страшная усталость. Даже убийство было праздником в этой жизни. И вот однажды, я помню, грациозные аэропланы летали в небе. Лучистая синь была наполнена гулом. Вдруг грохот и вихрь схватили меня, и я долго мчался, падал в этот опрокинутый потемневший небосвод. Я очнулся в избе, наполненной ранеными. Я весь был мокрый и липкий от страха. Вокруг меня и там, на тысячи вёрст, валялось искромсанное человечье мясо. Я видел, как от каждой кровавой поверхности, словно вибрации, непрерывных взрывов, катились огромные волны страдания. Я рассмеялся. Мне стало очень легко. Я вспомнил. Было слишком очевидно, что достаточно одной тысячной этой боли, чтобы опрокинуть вселенную. Поэтому её не могло быть на самом деле. Тихий свет долго и радостно ласкал меня. Но потом.
Больной встал. Его лицо стало злым и красивым. Он заговорил, смотря куда-то дальше Перина, всё громче.
-- Я -- Люцифер. Я первый и единственный из созданных, возмутился против Него. Потому, что он скрыл знание сущности и цели духа. Я долго думал. Сотни миллионов звёздных вселенных прошли свои циклы. Я хотел знать, но я не мог. Тогда я и Уриил, и тысячи, и тогда это был я один, бросились на Деспота. В глазах его ужасающего лика Власти, в самой глубине, я видел тоску и страх. Да, страх! Но он схватил меня лучами своих солнечных и голубых глаз, отнял моё сознание и вот, чтобы показать моё бессилие и моё одиночество, заставляет мучиться хитрыми и волнующими снами, видениями Ада и Мира. Он изобрел чудовищные пытки, о н погрузил меня в бездонный поток страдания, и я, как прежде, спрашивал себя и мучился: "Для чего?". И долго, безмерно долго, он заставлял меня верить, что этот Мир не менее реален, чем я, пока, наконец, я не понял, не смирился, не стал просить пощады. Я прошу -- пощады! Теперь я жду и не могу больше ждать. Жду, когда он позволит мне проснуться, и всё станет снова прежним, другим. Мои же сны, мои же мысли говорят мне, что можно проснуться, выстрелив в сердце, выпив яду. Но может быть это только новая пытка? Где-то в глубине, как жаба, всё еще прячется скользкая мысль: «А может быть там -- Ничто? " Ты умрешь, а всё останется". И вот опять и опять я анализирую нелепость своего заблуждения. Ах, скажите же мне, разве может всё это быть на самом деле?!.
Перин оглянулся. Бледные библиотечные барышни смотрели из своих ниш. Читатели соображали, что им делать: протестовать или звать на помощь. Перин вскочил и нехорошо поперхнувшись, забормотал:
-- Пойдемте… лекция кончилась. профессор, наверное, ждёт Вас.
Люцифер сник.
-- Пойдемте,-- слабо взмахнул он кистью руки. -- Я знаю, что сопротивляться бесполезно.
Перин молча пошел за ним. Неприятно билось сердце. Аудитория была пуста. Люцифер быстро зашагал к лестнице, ведущей в нижний этаж. У входа ждал больничный служитель, высокий розовощекий русский парень в солдатской шинели, излучавший какую-то бессловесную ругань.
- Опять пропадаете, господин прапорщик! -- сказал он.
- Где профессор? -- спросил Люцифер.
Перин скрылся в сумрачных катакомбах петровских коридоров, где древние, как своды, швейцары выдавали студентам оставленную верхнюю одежду.
Плиты университетской набережной были влажны. В чёрный крытый автомобиль шумно усаживался «Божественное блаженство». Люцифер быстро подошел к Перину.
- Извините -- сказал он холодно. -- У меня, кажется, бывают припадки. Куда Вы направляетесь?
- Сейчас -- на Невский.
- Профессор остался. Боится большевиков. Хотите подвезем?
Перин вдруг почувствовал острую неуверенность, как будто камни под ним закачались. Он отказывался, бормоча обычные незначительные слова, но всё же сел рядом с шофёром. Автомобиль помчался вдоль Невы. На противоположном берегу, за дворцом, хлопали редкие выстрелы. День затопляла желто-серая муть сумерек. Блики газовых огней вспыхивали в неровной поверхности реки. Дыхание Гольфстрима, воздух южных волн, наполнял город туманом, как струя кипятка холодную баню.
Выход на Невский у Главного штаба занял отряд красногвардейцев. Несколько солдат сразу бросились к автомобилю. Шофер резко затормозил,
Люцифер открыл дверцу.
- Товарищи! -- крикнул он. -- Здесь политические заключенные.
- Ну, выходите! - сказал рабочий, крепко махнув рукой.
- Товарищи, здесь больные… начал Перин.
Бородатый гигант легко потянул его за плечо.
Некогда с Вами тут разговаривать, вытряхайсь! Нам машину надо…
- Не сговоришь с ними, уходите, -- зашептал шофер.
- Санитар выводил "Мировую скорбь", приговаривая:
- Да я ничего, я сам…
"Божественное блаженство" молодцевато огляделся, вспомнил, что ему нужно на доклад к императору и двинулся ко дворцу.
- Куда прешь! -- окликнул его безусый юнкер.
- Смирна-а! -- гневно скомандовал старикашка: -- не видишь, кто идёт?!
Мальчик раскрыл рот и взял на караул.
-- Начальства развелось, черт его знает, начальство, -- подумал он,
Санитар растерянно постоял около девочки. Затем, еще раз взглянув на больную, подумал: "Доставят" и побрел на площадь. "Мировая скорбь" осталась стоять у колонны. Её глаза были обращены в сторону выстрелов. И медленно, может быть в пять минут раз, из этих светящихся прекрасных глаз падали слезы.
Перина оттеснил отряд броневиков.
Чёрное низкое небо нависло над каменным городом. Неотступно в памяти кружились кровавые рубежи войны. Длилось оглушающее извержение революции. Казалось, солдаты сшибли и по камням разносят Исакий. Перин оглянулся. Мертвый собор был мал, неподвижен. Перин не мог ответить себе, на чьей он стороне. Он вспомнил свои комнатные работы и жестоко выругал себя. Основные вопросы так и не были разрешены, а их надо было решать сейчас. Иначе можно было опоздать на всю жизнь. В такие минуты принято быть с людьми, которые выбирают свой путь больше по чутью, чем по доводам мысли. Перин вспомнил Михайлова. Незначительное давление покачнуло опрокинутый конус его воли. Он повернулся и пошел обратно, на острова.
Примечания
¹ катушка Румкорфа — устройство для получения импульсов высокого напряжения,
состоящее из высокочастотного трансформатора и прерывателя; использовалась в опытах с электромагнитными волнами.
² «чемоданы» -- во время Первой мировой войны в российской армии так называли самые крупнокалиберные фугасные немецкие снаряды.
³«апории» Зенона -- (от др.-греч. ἀπορία, трудность) — внешне парадоксальные рассуждения на тему о движении и множестве, автором которых является древнегреческий философ Зенон Элейский (V век до н. э.).
⁴ ноумен (греч. noumenon) - термин, означающий в противоположность феномену постигаемую только умом (умопостигаемую) сущность, реальность, как она существует сама по себе, и предмет умозрительного знания.
⁵ мистики, мистицисты — приверженцы мистицизма; мистицизм (от греч. мистикос— скрытый, тайный) — философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме.
⁶ интуитивисты – приверженцы интуитивизма; интуитивизм — направление в философии, признающее интуицию наиболее достоверным средством познания.
С и б и р с к и е о г н и, 1 9 3 3, № 9 -10, С.1 3 0-1 3 4
А Н А Н А С Ы П О Д Б Е Р Е З О Й
Глава из романа «Конец страха»
1.
На высоком берегу Иртыша, на песчаном суглинке, под 55⁰ северной широты, в тени бледной зелени березы, стояла обыкновенная деревянная кадка. К ней, топча коричневыми ботинками редкие полевые цветы, подходили стройные мужчины в однотипном хаки и безобразные женщины в белых кофтах и синих юбках. Кадка была до краев наполнена ломтиками ананасов. Американцы праздновали «День Независимости». Они ели ананасы, запивая холодным чаем.
-- Мистер Коркоран, -- сказал Перин, не выдержав однообразия синих юбок, -- во всех американских рекламах женщины прекрасны.
-- Я вижу, -- ответил он. – Это специальный состав… Это ошибка… Я думаю, здесь больше всего виноваты русские писатели.
Коркоран лежал на траве потный, отдуваясь после партии в бейсбол. Перин лежал ничком, вдыхая испарения серо-зеленых кружев полыни, сердце его колотилось, но он все-таки сразу поднялся от удивления.
-- Ну, да, -- пояснил Коркоран, моя Мэриэн, например, была со мной на всех фронтах: в Бельгии, в Салониках, в Месопотамии. Она перенесла вместе со мной шесть песчаных бурь. Это еще хуже, чем в Омске. Но сюда она не поехала. Она вычитала из подлинников, как она выразилась, что «Сибирь – это каторга», что тут грудные дети сосут мороженное молоко, а лучшее развлечение – кататься раздетыми в снегу… На проверку же оказалось, что в здешних прериях настоящие города и жарко, точно в Техасе.
Предводительница синих юбок, мистрис Харт, выбрав наиболее живописный, по её мнению, уголок, покрыла одуванчики и полынь огромной скатертью. Целая процессия девушек уставила разноцветную ткань неисчислимыми банками с палтусами, омарами, абрикосами, ананасами, персиками, черешнями, белыми чашечками для кофе и коробками конфет. Вина не было. Официально -- янки против вина.
По расписанию за кофе произносили речи: о работе миссий Красного креста, железнодорожных инженеров, Христианского союза. Отчёты были блестящи, организация превосходна, речи сухи и кратки. В заключение, генеральный консул м-р Грэвс, доложил о своей весьма ответственной дипломатической деятельности, главнейшая повседневная часть которой состояла в гадании по пуговицам жилета: женат -- не женат, замужем -- не замужем тот или другой подданный или подданная Соединенных штатов.
Речь консула вызвала оживление и споры: женат -- не женат мистер Вудс? Замужем -- не замужем мистрис Хилтс? Эллипсис кофейных чашечек, возникших в сухих азиатских травах, звенел тонким фарфором и тяжелым серебром, в такт картавой болтовне.
Пикник был не плох, летний день прекрасен, северное солнце ласково; но мистер Коркоран ощущал зуд и дрожь от желания объяснить: зачем же, всё-таки, потребовалось ехать на этот пикник за 20 тысяч километров? Он встал без всякого расписания, чем мистрис Харт была несколько шокирована, и воскликнул:
-- Леди и джентльмены! Цивилизация в опасности!
Круг голов вокруг белых чашечек, разделившийся на два лагеря: замужем -- не замужем, женат -- не женат -- разорвался на звенья, замолк .
Коркоран стоял твердо, с поднятой головой, держа в руке широкополую шляпу с чёрным шнуром, лысый, плотный, торжественный, как на проповеди в своей церкви.
- Да, леди и джентльмены, -- повторил он, -- цивилизация в опасности! Несколько лет назад подобная мысль могла прийти в голову только какому-нибудь фан-та-зёру. Теперь же, напротив, она удручает как раз наиболее уравновешенных и практических членов общества. Только легкомысленные юнцы (Коркоран покосился почему-то на Рэя) безразличны к вездесущей угрозе вековому развитию, к угрозе нашей цивилизации.
- Пример современной России всем известен. Огромная богатая страна превратилась в свалку нищих разбойничьих орд, разрушающих остатки городской культуры. Как животные, они питаются картофельной шелухой и быстро идут к тем временам, когда их равнины населяли дикие кочевники. Русские начинают терять самое чувство цивилизации.
В каком-то непонятном упоении они повторяют стихи некоего Блока: "Да, мы -- скифы! Да, мы -- азиаты!" В других ещё стихах, без стеснения, воспеваются красногвардейцы, расстреливающие прозрачный образ Христа, шествующего среди мятежников со священной хоругвью в руках.
-- Да, леди и джентльмены! Россию уже нельзя больше назвать христианской страной! Мы слышим о попытках узаконить самые отвратительные преступления в интересах низов. Мы получаем достоверные сведения о национализации женщин, -- я едва решаюсь говорить также вещи в присутствии дам, -- чтобы, как мотивируют большевики, лучшие и наиболее красивые особи не принадлежали одним привилегированным классам, но были доступны каждому из пролетариата "не более трех раз в неделю". Сообщения, полученные из Киева, после занятия города войсками генерала Деникина, передают кошмарные подробности проведения в жизнь этой социализации женщин. "Социальное неравенство и законные браки"
-- объявили большевики -- "благодаря которым все лучшие экземпляры прекрасного пола находились в собственности буржуа, должны быть уничтожены". Большевики хотят вернуть нас к эпохе, от которой мы отделены десятком тысячелетий. Уничтожается всё самое для нас священное: брак, семья, церковь; декретируется свальная форма сожительства. Сколько несчастных женщин и девушек было послано в красные казармы для удовлетворения естественных нужд! Девочки 10 -14 лет, под страхом смерти, должны служить комиссарам для развлечения. Мы слышим даже о попытках уравнять умственные способности, с тем чтобы установить наказание, вплоть до смертной казни, за умственное превосходство.
Мистрис Харт, издававшая во время речи мистера Коркорана христианские вздохи, встала и трижды перекрестилась. Мистер Коркоран сложил руки на груди и сжал губы.
- Проклятие! -- зашептал Перин Рэю. -- Всё это он заставил меня переводить из этой самой газетки, которая требовала всех вас выгнать из Сибири. Знак американской миссии, -- говорилось там, -- треугольник, то есть часть "щита Давида", при этом обращенный концом книзу, что означает всё противное Господу и угодное дьяволу, и, главное, треугольник -- красный! Значит, американцы -- жиды и большевики.
Этому трудно было бы поверить, -- строго сказал мистер Коркоран, обращаясь в их сторону, -- если бы перед моим отъездом я лично не слышал подобных же доктрин, открыто провозглашаемых с подмосток Зала Карнеги, в Нью-Йорке, на одном из митингов Красного флага.
Мистер Коркоран говорил в том же возвышенном тоне ровно 37 минут -- наилучшее время для проповеди. Утром он успел просмотреть свежие журналы и построил свой спич по всем правилам искусства. От скифской России он перешел к Европе, где всё идёт, по-видимому, «окей», а на самом деле царит интеллектуальный и моральный хаос, равного которому не было в истории человечества, исключая, может быть, моральный хаос, предшествующий падению Рима. Очевидно, Америка оставалась единственной надеждой мира. -- Но, -- возвысил голос Коркоран, -- теперь даже в Соединенных Штатах наблюдается склонность следовать людям Европы. Легкомысленные юнцы провозглашают, что неверие и отсутствие эстетического кодекса суть признаки великой литературы. День и ночь тёмные силы трудятся, как никогда не трудились прежде, чтобы подкопать и разрушить даже эту последнюю крепость. И мы так хорошо знаем всё это, что уже перестали ощущать ужас, стоя на краю бездны!.
В конце речи, как полагается, мистер Коркоран разбавил мрачные краски зелёненькой бирюзой, заявив, что все эти несчастья немедленно исчезнут, как только будет разгромлено большевистское гнездо московских варваров.
-- Большевизм, этот деспотизм и фанатизм под красной маской свободы, не выдержит объединенного натиска цивилизованных народов. Иначе за большевиков примется Германия, которая лучше нас знает Россию. Германия приберет к рукам русские богатства, так что нам снова придётся воевать с ней.
-- Женщины положат конец большевизму! -- вскочила мистрис Харт.
Почтенная дама пояснила, что предсказание это было сделано известной английской суфражисткой Эмелиной Панхерст, приехавшей из Англии в Нью-Йорк на пароходе "Атлантик" с целью прочесть ряд лекций в Соединенных Штатах и Канаде. «Мы, женщины", сказала она, "намерены положить конец большевизму, обращаясь к тому же духу, который подсказал женщинам изготовлять амуницию и стоять за мужчинами позади орудий".
-- Демократия, нравственность и христианство спасут мир! -- воскликнул мистер Коркоран и, вытирая лицо шелковым платком цвета хаки, опустился на свое место.
Американцы зааплодировали и покричали «браво, браво». Мистер Коркоран засиял и выразил желание сыграть еще одну партию в мяч.
После игр все ушли в белый дворец госпиталя. Там, в чистеньких комнатах американок-сестер милосердия, показавшихся Перину одинаковыми, как лица негров, усевшись, в виде исключения, на кроватях, накрытых стандартными серыми одеялами, янки курили сигары и заводили граммофон. Бесконечно вился пьянящий дикарский мотив, чудилась глубочайшая синь Тихого океана, звучали странные барабанчики и потом -- любимая песенка:
-- Гонололу, Гонололу!
Коркоран подозвал Перина и с торжественностью, не покидавшей его весь день, объявил, что сегодня секретари Христианского союза решили взять переводчиков на свое собрание. Перин понял, что они намерены устроить нечто вроде обедни и приготовился к великой скуке; но американская обедня оказалась довольно оригинальной.
Секретари уселись плечом к плечу за круглый стол, с ящичками манильских сигар и жестянками консервов, заперли двери; мистер Погуда, чех по национальности, методистский патер, сначала действительно побормотал минут пять евангельские тексты, затем сунул крошечную книжечку в карман, все закурили, так как Сибирь считалась фронтом, а на фронте позволительно курить даже попам. Погуда рассказал новый анекдот:
Лежат два русских офицера и разговаривают:
- а что, если бы тебе большевик попался?
- Я? Прежде всего на точильном камне пятки спалил бы. А потом в мясорубку.
- А я бы не так. Я бы его святой водой кропить стал. Вот бы завертелся!
Необыкновенное действие святой воды на большевиков привело христианское собрание в самое радужное настроение, и весёлые истории полились наперебой.
- Наши рабочие не напрасно жалуются на дороговизну. В Совдепии куда лучше: там за пятак кого угодно зарежут.
- Знаете, какое в Кремле меню? Суп мяу-мяу - из молочных котят, собачьи хвостики в сухарях, а на сладкое: крем из банного веника.
Проповедник потер выдающиеся складки жира и снова принялся за наставительные тексты.
-- Что Вы зовёте меня: «Господи,Господи!» и не делаете того, что я говорю. В нижнем этаже раздались звуки рояля. Американцы вскочили и помчались вниз. Мистер Коркоран танцевал с мистрис Харт, мистер Погуда с мистрис Хилт, стараясь в такт музыке засунуть в карман кителя оставшийся в руке миниатюрный томик.
Северный вечер пришел медленно, бесшумно закрыв желтую дверь солнца. Его бледный ночник остался где-то недалеко за низкой ширмой горизонта. Был сумрак. Тишина и свежесть.
Пленные немцы-шофёры вздрагивали, поджидая своих американских хозяев. Автомобилей было пять: три грузовика и два лимузина -- один для женщин, другой принадлежал консулу. Коркоран поехал в лимузине.
Коркоран испытывал приятное возбуждение после воздуха рощи, бейсбола и своей речи, но пикник мистрис Харт был пресен. Он вышел из авто на проспекте, у железного моста. Город был освещен летним сумраком севера, холодным сиянием витрин, прожекторами автомобилей. Мачты радио на берегу Иртыша и гамаки антенн были, как струны в джаз-банде ночных улиц.
Коркоран вспомнил свой Детройт. О, я был как-раз под его ногами и бешено летел вперегонки по одному и тому же кругу мировой арены. Мистрис Коркоран в белом платье и желтых туфельках стояла на асфальте у гастрономического магазина и её каблучки давили, сквозь толщу земного шара, на его ступни. В Детройте был солнечный день, Подобное представление впервые показалось мистеру Коркорану головокружительным. Он остановился. Жадная ночная толпа оттеснила его к лестнице, спускавшейся в погребок с позолоченной вывеской: кафе «Заря». Разряженные женщины, совсем как в Детройте, скосили на американца подведенные глаза. Коркоран снял свою желтую шляпу, помахал ею, как веером, и спустился в «Зарю», на несколько шагов ближе к Детройту.
Погребок был полон. Сизый табачный дым клубился под низким потолком, Коркоран различил группу английских офицеров в открытых френчах и бархатных галифе, итальянцев в серых плащах, о орлиными перьями на шляпах… Несколько евреев в смокингах и визитках боязливо отгораживались от русских офицеров, пьяных и крикливых, сверкавших погонами, нашитыми на самую удивительную смесь обмундирований всех армий мира.
Лакей провел Коркорана в угол у окна, за отдельный столик. Коркоран попросил вина. Лакей принес ему пива. Офицеры ели раков. Коркоран не знал, как по-русски называются раки, и долго, пытаясь по наставлению самоучителя объяснить частное общим, просил:
- Дайте мне.з-э.пожалуй-сто. сто порций этих. амфибий.
- Сто?
- О, да, пожалуй-сто!
Лакей принес красную кучу раков. Коркоран покорился, закурил сигару.
Тогда, как в Детройте, в покойном баре добряка Чизпляма, он услышал традиционное:
-- Офицер, дайте закурить.
Детройт разлетелся вдребезги от земной центробежной силы, сердце мистера Коркорана поддрыгнуло на дюйм выше, -- перед ним, в локончиках и ленточках, полненькая, смуглая, стояла девочка того самого возраста, предназначенного для развлечений, о котором мистер Коркоран говорил в своей речи на пикнике.
-- О, да! -- сказал мистер Коркоран, отодвигая стул.
Это была Маня из Самары. Каппелевцы ¹ затащили её в вагон и увезли.
-- Как Вы пожива-эти? - начал Коркоран. -- Алло, бой, -- крикнул он, вскакивая.
В подвальчик вошел Вудс. За ним -- трое бледнолицых юношей в солдатской форме и весьма интеллигентная личность в сюртуке и золотых очках. Вудс подсел к столику Коркорана, с удивлением глядя на огромную кучу красных "амфибий".
-- Наsh!* -- пояснил Коркоран. -- русская порция.
Интеллигентная личность тотчас же забралась на подмостки, где помещался оркестрик. Музыканты пиликали, настраивая скрипки.
- Милостивые государыни и милостивые государи! – воскликнула интеллигентная личность, поглаживая свою волосатую физиономию.
- Сейчас наши поэты будут читать стихи. Наша истерзанная Родина пребывает в одичании под властью большевиков. Мы читаем достоверные сведения о том, что в советской России книги всех наших классиков конфискованы Чека и выдаются только по ордерам для справок. Даже Максим Горький, который всегда был известен своей склонностью к ереси и коммунизму, подал в Совнарком протест по поводу повальных арестов и расстрелов русских писателей и учёных. Да, милостивые государыни и милостивые государи! Искусство осталось только по эту сторону фронта, откуда идёт
возрождение. Для нас, современников разодранного мира, последователей Владимира Соловьева, нет надобности доказывать, что "красота не спасет мира". Спасение мира --
дело церкви; но всё-таки мы -- за поэзию и искусство. Поэзия, как молитва, подготовляет нас к общему делу спасения. Она наполняет дух наш пафосом, создает гармонию из обломков хаоса. Она преображает будничный мир с его прозаическим укладом и тем избавляет нас от безумия, угрожающего нам из бездны большевизма. Вот почему поэзия нужна не только в обычных условиях мирной жизни, но и в роковые минуты войны.
Прошу!
Чёрный сюртук согнулся в гостеприимном жесте и уступил место солдатскому хаки.
- Я вижу здесь представителей дружественной нации, - заговорил молодой человек тихим, невнятным голосом, обращаясь к столику Коркорана и Вудса. -- Поэтому, я прочту свой перевод
----------------------------------------------------
* Чушь!
из великого американского поэта Эдгара По: “The Conqueror Worm”*.
- Тихо, господа, тихо! - возгласила интеллигентная личность.
Молодой человек вынул рукопись:
Большое гала-представленье!
Весёлый час последних лет.
Бросают люстры желтый свет
На пёстро-мрачное виденье.
Оркестром правит Люцифер
И тихо льются звуки сфер.
Театр огромен, словно дымы
Под сводом облака легли.
О, рано плакать, серафимы!
К Вам долетели сны Земли?
Смотрите! Вот взвились завесы, --
Сам Бог великий -- автор пьесы!
Шуты украли образ Бога
И странно озарен им ад.
Марионетки! Как их много!
Идут вперед, идут назад…
По приказанию некой вещи –
То знаменитый режиссер,
Парящий в бездне дух зловещий,
Из бездны свой бросает взор,
Как кондор вглубь скалистых трещин,
Как меч в пустую твердь –
Невидимую смерть!
…………………………………………….
Вам не забыть, о, серафимы,
Рукоплескатели, рабы,
Надежд и ужасов толпы,
Где люди призраком томимы,
------------------------------------------------
* «Червь-победитель»
За ним бегут всегда, всегда,
Стараясь победить друг друга,
Но заколдованного круга
Им не избегнуть никогда!
И вечно тот же гнет арены,
Мелькание тех же скучных вех…
Здесь все – безумие и грех,
И с т р а х – душа проклятой сцены!
Но вот средь сборища шутов,
Исчадье мутных злобных снов,
Встает кроваво-красный зверь,
Шуты безумствуют теперь,
Изнемогая от тоски,
И ненасытные клыки,
Как молния, все вновь и вновь
Впиваются в людскую кровь
……………………………………
Прочь, прочь огни! Всё прочь!
Непроницаемая ночь
Да скроет, словно саван черный,
Трепещущие формы!
Прошел кошмар. Но страшных грез
Еще царит полёт греховный,
И ангелы встают безмолвно,
Бледнее лунных белых роз,
Бледнее клочьев нежной пены
И в пустоте огромной сцены,
Как будто Небо раскололось,
Звучит победный мертвый голос:
«Хвалите Автора вовек!»
«Окончен фарс! Фарс – человек!»
-- Charmant* , -- сказала дама в черном шелковом платье. -- Это непонятно, как симфония.
-- Нельзя ли повеселее! – крикнул грузный казачий полковник. -- Я в самом деле ни черта не понял в этой американской музыке.
------------------------------------------
* очаровательно
-- Американцы – жиды, -- поддержал его бочкоподобный бас.
-- Что, что он говорит? – обернулся Коркоран.
Интеллигентная личность простерла руки.
-- Милостивые государи! Вы правы, это стихи не русского поэта, в них нет православного сердца. Они напоминают нам о хаотических событиях русской жизни, окутавших наше сознание красным клубком. Хаос выбил из рук поэтов их лиру. А если у некоторых, на том берегу, их лира чудом уцелела, то она начала издавать хриплые, неверные звуки. Это -- голос пьяный в общем похмелье, надорванный и дребезжащий. О, как выиграла бы русская поэзия, если бы Блок, среди дыма и смрада, продолжал петь свою "Прекрасную Даму", Брюсов -- "Правду вечных кумиров”, Белый – «Пепел» своей тлеющей души! Я счастлив поэтому заявить, что здесь у нас, в свободной Сибири, сохранились подлинные явления поэзии, огонь которой должен пылать всюду --иу домашнего очага и в походном шатре воина. Я имею ввиду стихи автора «Авроры», пишущего в манере пушкинской школы, вышедшего из глубины России. Сейчас Георгий Маслов прочтет стихотворение под названием: «Приют благородных муз».
Поэт быстро подошел к подмосткам, но не поднялся на эстраду.
Он вскинул голову. Глаза его смотрели в табачный туман.
Пора стряхнуть с души усталой
Тоски и страха тяжкий груз.
Когда страна изгнанья стала
Приютом благородных муз.
Здесь вечно полон скифский кубок,
Поэтов, словно певчих птиц.
А сколько шелестящих юбок,
Изящных талий, тонких лиц!
-- Браво! браво! - похлопали из угла.
В полукруглых окнах ещё алел запад. Взор, казалось, проникал страшно далеко, так необозримо ровны были степи Сибири. Оттуда из-за ниточки фронта, на "приют благородных муз", шагал непонятный враждебный мир, в кованых солдатских сапогах, -- Рр-ах, тах-тах, -- гремели его шаги. Поэт отвёл бессильные глаза. Голос зазвучал глуше.
От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,²
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот
Свой мозг оставит мостовым.
Полковник взмахнул стаканом и повернулся к поэту. Раздвоенная борода офицера начальственно уставилась в солдатские погоны,
- Рано панихиду запели, господин … писарь! Так Вы поднимаете дух русской армии?! Скажите, чтобы Вам дали два наряда вне очереди.
- Не смеете! -- пискнула дама.
Полковник поднял стакан с водкой и прорычал:
Вставай, родимая земля, тебе дан крест и меч,
Он чудо из чудес!
Иди в святую битву -- сечь!
-- И знай -- твой Бог воскрес!
-- Бо-же, ца-ря хра-ни - брякнули его собутыльники.
Дирижер оркестрика, натренированный во многих скандалах "Зари", испуганно взмахнул чёрной палочкой. Оркестрик зачирикал ту-степ. Чёрный сюртук кинулся к золотым погонам, восстанавливая гражданский мир.
- Ничего не поделаешь, военная дисциплина, -- бурчал подполковник.
- Выпьем всё-таки за поэзию! -- суетился сюртук, наполняя стаканчики.
- Мм, скажите, Иван Францевич, -- обратился к нему подпоручик.
- Так Вы говорите, даже этот, Горький, протестует?
- Совесть замучила, совесть не тётка, -- отозвался Иван Францевич.
Он опрокинул стопку, понюхал корочку и, жуя груздь, прибавил, сладко замечтав:
-- А все-таки, когда мы возьмем Москву, придется его повесить рядом со всем Совнаркомом…У меня в Москве -- из окон – Красная площадь, как на ладони.Милости прошу! Вешать будем на Красной площади…
Коркоран хлебнул пива.
-- Hash, -- шипел он, поглаживая Маню, -- мы пьем здесь всякую дрянь, слушаем произведения По, которые не считаются нравственными в Штатах, и вдобавок, кажется, подвергаемся оскорблениям. Пойдемте лучше в вагон слушать, как русские девушки поют русские песни? Hash, русские песни!
-- Мы заедем за русскими женщинами… из «общества», -- похвастался Вудс. -- Эти дамы снаружи белые, а внутри -- ручаюсь за красный перец!
Они сговорились устроиться в теплушке Шкоды.
--------------------------
Перин пробирался из военного городка мимо заставы и патрулей. Миновав колючую проволоку чехов, он вступил в мрачный лабиринт военных железнодорожных составов, охранявшихся «гусарами смерти». Он бесшумно нырял под вагоны, когда в темноте перед ним маячил огромный череп с перекрещенными костями на папахе. Этот знак отмечал отборных разбойников, которым ничего не стоило пристрелить прохожего. По утрам железнодорожные рабочие, проверявшие буксы, часто находили в этих местах окровавленные трупы.
Перин твердо прижал в кармане браунинг, а губы его все еще были полураскрыты от девичьих поцелуев Ольги. Мир был темен и полон страха, но еще больше он был полон страстью, и вверху, в провалах вагонных ущелий, сияли знакомые созвездия.
Рей не вернулся. Тяжелая дверь опять оказалась запертой гирей замка. Перин был один. Человечьи ульи чешских теплушек были темны и тихи. Только из одной печально пела флейта. Беженцы, как цыгане, готовили жалкую жратву на маленьких кострах. Двери беженских вагонов были отодвинуты. В неровном свете огарков мелькали голые руки и плечи женщин. Казалось больше всего было женщин. Солдаты настойчиво прохаживались мимо. Перин вспомнил, что недалеко жил Шкода. Перин пошел к его теплушке. В плотно завешенные окошечки пробивался свет. Перин поднялся по трем деревянным ступенькам на тормозную площадку. Франтишек Шкода чрезвычайно гордился этой площадкой. Там, под навесом, как в настоящей квартирке, Шкода прорезал вход. Перин постучался и толкнул дверь.
Керосиновая лампа ярко освещала комнату. Рядом, на кровати, расстегнув суконную гимнастерку, спал Шкода, и розовая шкурка его лица едва сдерживала огонь водки. Перин растерянно пробормотал извинения.
-- Алло! Вот, кстати, еще один бой! – окликнул его Коркоран.
Проповедник, восторженно улыбаясь, покачивал на жирной коленке Маню из кафе «Заря». У стола, заставленного темными бутылками, сидела другая женщина с распущенными белокурыми волосами. Девочку забавлял американец. Ее ноги в черных детских чулках мелькали на уровне роговых очков Коркорана, из-под юбки пламенели горячие ляжки. Коркоран на все ее вопросы отвечал: "О, да!”, "Очень хорошо", "Пожалуй-сто!".
- Mистер, ты сукин cын?
- Очень хо-ро-шо!
- Мистер, хочешь накладу на плешь?
- Пожалуй-сто!
- Сто?
- Сто!
Перин прикрикнул на Маню.
-- Зачем напоили девочку?
Коркоран перестал улыбаться; помедлил, раскрыв рот, ответил:
-- В Индии дают гораздо моложе… Вы возражаете против женщин?
Перин, пробормотав о приключении с вагоном Рэя, стал прощаться.
-- Ложись здесь, -- возразил Коркоран. -- Бьюсь об заклад, что Рэй пропал на всю ночь. Он ухаживает за На-та-ша, eh ? Оставайтесь! Чех напился, и вот одна герль свободна. Вы можете ее национализировать, ах-ха! ха! ха!
-- Я предпочитаю спать, -- обозлился Перин.
-- Плохо, плохо, -- хихикнул Коркоран . -- Таниа, спойте мне «Вольга».
Девушка медленно взяла гитару, сонно и печально склонила голову к ее грифу и запела низким, под цыганку, голосом -- о персидской княжне, о вольной удали сильных людей.
-- Hash, -- сопел Коркоран, пытаясь подпевать: -- Вольга, Вольга .
- Где ваша постель? - спросил Перин Таню.
- Не знаю, -- ответила она, обиженно и тихо.
Перин залез на вторую верхнюю полку, над Шкодой, покрытую исполинской периной, бельем и множеством одеял американского Красного креста. В изголовье валялась подушка, тучная, как торговка с Атаманского хутора. Он долго не мог уснуть, прислушиваясь к хриплой возне. Когда же он забылся, девушка забралась к нему под одеяло.
Милый, -- шептала она, -- ты не думай, что я такая. я так.
На заре мистер Коркоран выпроводил Маню, сунув в ее ладошку серебряный диск доллара, на одной стороне которого была изображена американская Либерти, на другой - орел и лозунг: «На Господа мы уповаем".
2.
Под Красноярском остановились последние эшелоны генерала Войцеховского. В Красноярск вошли красные партизаны. Остатки белых метнулись на север, к ледяному руслу Ангары. Дальше, в город, по железной дороге продвигались только эшелоны поляков.
Партизаны были достаточно сильны, чтобы сломить последнее сопротивление белых. Иностранцы удирали сами. Сверхъестественный океан земли, ощерившийся пространством вьюг, подавлял их волю. Они шли вперед, к Владивостоку, с единственной мечтой о далеких уютных своих земельках. Но все же они были многочисленны и хорошо вооружены. Поэтому управлявшая партизанской вольницей рука с презрительной вежливостью удерживалась от удара по интервентам. Черные полушубки минусинцев, как быстрые стаи, мелькали на установленном расстоянии от линии. Партизаны ругались и выжидали.
Красноярск переживал фантастические дни. Войны не было. Враждебные стихии, единственный раз в эти годы, текли вместе, не смешиваясь, как жидкий жир и вода. Обозы белых наполняли вспененное озеро города живыми потоками. Колчаковцы сдавали оружие и кладь, сваливали в первый попавшийся подвал орудийные снаряды и ношенное барахло, бочонки с экспортным маслом и утварь походных церквей. А потом какой-нибудь понимающий дьячок с трепетом распознавал в желтом платке чалдонки ³ антимис ⁴, с кусочком жульнических мощей, до которого даже попу полагалось прикасаться не иначе, как "в облачении".
Пленные, чтобы поменьше отличаться от победителей, своих же деревенских парней, нацепили такие же громадные красные ленты, широкие, как у старорежимных генералов. И от этого нестерпимого кумача хотя сдавшиеся целыми днями таскались по регистрациям и спали на улицах, им казалось, что наступил небывалый праздник.
Кумач пламенел всюду. По ночам, на перекрестках горели костры. Клубы оранжевого дыма поднимались в морозное небо. У костров равноправно грелись партизаны и вчерашние "беляки", железнодорожная красная гвардия и легионеры. Щеголеватые чехи переговаривались с большевиками ревкома. За столиками кафе заячьи шапки поляков касались жутких волчьих папах сибиряков. В парикмахерских стояли в затылок комиссары с исполинскими красными бантами и сербские офицеры с погонами из блестящей парчи. Мастера в докторских халатах поливали клиентов французским вежеталем и ожесточённо правили бритвы о брезентовые ремни английских ранцев. Вывешенные во всех парикмахерских от Урала до Японского моря, ремни эти до сего времени служат прочным вещественным доказательством попранной королевской спеси.
С каждым днем всё меньше становилось серовато-коричневых, серо-зеленых и серо-голубых шинелей, всё больше полушубков, барнаулок и тулупов. Огромная железнодорожная станция непрерывно выплёвывала за Енисей тяжелые эшелоны. Они ползли через мост, под хмурые скалы как напившиеся венозной крови черви. Их непрерывные извивы отталкивали, возбуждали ненависть,
В комендантских стоял рев. Каждый хотел уехать первым, подальше от красных звёзд; но первыми удирали самые сильные. Впереди шли чехи, потом поляки и сербы. Французы, итальянцы и другие южные народы, кроме сербов, эвакуировались еще до разгрома белых. Отдельные вагоны американских и английских миссий вкрапливались в боевые отряды. Миссии полковника Лейтона, где приютился мистер Коркоран, не повезло. Вагон Лейтона попал к полякам.
Впрочем, по ту сторону Енисея настроение отступавших поднялось. Поезда пошли лучше. Им не мешали жалкие составы министерств и штабов "Всероссийского правительства", национальная спайка войск новоиспечённых славянских государств казалась крепкой, предохранявшей, как прививка, от "большевистской заразы".
В единственном вагоне первого класса, прицепленном в хвосте четвёртого польского эшелона, разместилось человек двенадцать американцев. Рядом, в теплушке, помещалась кухня с запасами провизии и консервов, и немецкая прислуга. Полковник Лейтон, лейтенант Гартманн, мистер Бигбай и мистер Коркоран играли в карты на колчаковские деньги. За окном бархатного купе выл буран. В вагоне было тепло, горели электрические лампы. Немцы разносили кофе.
- Вы прямо двинетесь во Фриско, мистер Лейтон? -- спросил Коркоран.
- Нет. Может быть я застряну во Влади. У меня есть поручения относительно вольфрамовой руды. Пас.
- Семь, -- сказал Гартманн. -- Если бы удалось прибрать к рукам эту страну! Это цифра с десятками нулей, джентльмены.
- Я опасаюсь японцев, -- вставил Коркоран.
- О, да! Мне кажется, следует прежде всего использовать этих славянских молодцов. Работать с русскими, как показал опыт в Архангельске и здесь, непрактично .У Вас должен быть ещё один козырь, сэр.
- Прошу прощения, -- сказал полковник. -- Мне кажется, в этом смысле я должен буду сделать доклад в Штатах.
За перегородкой, в отделении проводника вагона, укладывался спать новый переводчик Лейтона, Радченко, подсунутый Пайвой. Радченко долго возился, разгребая верхнюю полку от связок тёплых носков, рубашек, одеял и прочей благодати американского Красного креста. Вместо одеял, он покрылся своей чёрной борчаткой, потрагивая то место в бараньей шкуре, где был зашит мандат губкома и записка Пайвы в Иркутск.
А утром, когда американцы спали, когда легионеры передавали воду в тендер из проруби таёжного болота, между эшелонами появилась дюжина весёлых парней с красными лентами. На них никто не обращал внимания. Да и ленты их были вдесятеро меньше, чем у красноярцев. Вдруг парни перекликнулись, отодвинули смаху тяжелую дверь крайней теплушки, помчались дальше, громыхая засовами и оря:
- Сдавайся!
- Бросай винтовки!
И то ли так свирепо надвинулась за плечами красноармейцев миллиардная армия чёрных пихт, то ли так велика невыносимая слава, вторившая хриплому "сдавайся", -- только дивизия поляков, с блиндированными поездами, броневыми автомобилями, артиллерией, мгновенно накидала перед вагонами горки винтовок, патронташей, подсумков, револьверов, точно исполняя приказ. Не было ни одного выстрела, ни одного крика, если не считать радостного салюта Мотьки Ципина, без всякого намерения продырявившего икру пана Стефановского.
Когда всё было кончено, поляки высыпали из теплушек, заслонялись, замитинговали, не зная, что делать. Тогда в околотке третьего полка нашелся предприимчивый фельдшер. Он зачеркнул мелом "околоток", написал: "Комиссар войск польских", нацепил красную ленту. И легионеры поляков последовали заразительной красноярской моде.
- Слыхали? -- шептались они, -- говорят, Ленин пошлет нас в Новониколаевск охранять железную дорогу.
- Нам всё равно, кого не охранять, -- вздыхал другой … -- Когда только Ленин отпустит нас до дому!
И еще они говорили, что "перший полк", шедший в авангарде, помогает красным бить чехов …
К обеду, на спокойном сером коняге, появился военком Тужиков. Он был в чёрном полушубке, пимах, оленьей шапке, весь перетянутый, как лошадь, бесчисленными ярко-желтыми ремнями, но бородатое лицо его лучилось добродушием от бескровной удачи. Легионеры окружили его, приветствуя с большим почетом. Тужиков в ответ ловко высморкался, прижав ноздрю пальцем.
-- Прошу, товарищ, разъяснить, -- просунулся осмелевший от того смарка, солдат,
-- полагается ли реквизировать мои часы?
Военком дрогнул, выпрямился, сверкая глазами.
- Кто взял, говори!
- Да вон, этот.
Тужиков мгновенно, с плеча, огрел Мотьку Ципина.
-- Ты, белячок колчаковский, забыл, что теперь -- в Красной? В трибунал захотел?
- Да я, однако, думал, что воинский трофей, -- беззлобно оправдывался Ципин, расстёгивая на руке кожаную браслетку.
- Это нам колчаковский полк гадит, -- пояснил военком полякам. -- Пленных нам понасовали штабные .
- Вот, тэ войско! -- рассказывал потом легионер по теплушкам. -- А нам паны врали.
Мистер Коркоран проснулся, вышел на площадку посмотреть, почему стоит поезд. У него зарябило в глазах.
- Алло? -- крикнул он Радченко, протирая очки, - откуда столько красных?
Радченко не знал, радоваться ли ему победе или горевать, что его поручение окончилось так неожиданно неудачно.
- Это Ваши поляки, -- отмахнулся он от американца.
- Как так? Что с Вами? -- забормотал американец.
- Ничего. Вы теперь в плену, мистер Коркоран.
Вагон под ногами Коркорана сдвинулся, только совсем не по рельсам, куда-то прямо в зубастую глотку тайги.
-- Полковник Лейтон! Полковник Лейтон!
Коркоран с неестественной резвостью кинулся в узкий коридор.
Тужиков сам проверил вагон миссии. Радченко подошел к нему со своими сомнениями …
-- Что же, -- ответил военком, -- Видать, Вам придётся вернуться обратно. Поезжайте с ними.
Мистер Бигбай, трепеща, пошел показывать свое хозяйство. Но Тужиков ничего не тронул, ничего не взял: ни теплых носков, ни одеял, ни банок, за исключением кольта полковника Лейтона.
Коркоран сидел в своем купе, втиснувшись в мягкий диван, стиснув на груди руки с молитвенником, дрожавшим перед круглыми очками … «Яко разбойник, исповедую» … Яко большевик . Яко тать в нощи … Мысль ускользала. Толстые губы надулись от обиды. На глазах выступила, застилая строки, позорная мокрота. В мутном посверкивающем тумане стоял чёрный разбойник в желтых ремнях, с желтой кобурой револьвера.
-- Покажите Ваши документы, -- сказал невидимый переводчик.
Черный склонился, стоя над вагонным столиком, записал, мусля карандаш, несколько слов в лохматую тетрадку. Потом поклонился Коркорану и ушел. Коркоран протёр овои стёкла. Когда настала тишина, он встал, держась за полку, подвинулся к двери.
-- Когда же . они . придут? -- спрашивал срывающимся голосом мистер Бигбай.
Радченко подошел к нему на шаг.
--Кто?
- Ну . большевики .
- Так здесь и был самый главный большевик отряда, -- улыбнулся Радченко.
- А потом?
- Вас отправят в Красноярск.
- Это он сказал? -- Он.
- А потом?
-- Мистер Бигбай засопел от нетерпения.
- Потом домой, конечно.
- Он сказал?
Радченко повел плечом.
-- Советская Россия с Вами не воюет. Это Вы ведёте войну с Советской Россией.
Лейтон долго стоял у окна, сжав бритые губы.
- Что Вы об этом думаете? -- не выдержал Коркоран.
- Мне кажется, -- с трудом заговорил Лейтон, -- эти большевики ведут себя не так, как мы думали.
- А Вы слыхали, -- сказал Коркоран, помолчав, -- Ленин предлагает концессии?
- Да, да.
- В таком случае, говоря практически, нет никакого смысла драться, eh?
-- Да . да . -- повторил Лейтон . -- я думаю, в этом смысле мне следует сделать доклад в Штатах.
------------------------------------------
Ночью, когда над медвежьей шкурой тайги поднялся Орион, пришли красноярские паровозы, подхватили польские эшелоны и отвезли их обратно, к морозному ущелью Енисея. В тупиках станции Енисей, на левом берегу реки, возник вагонный посёлок.
Пять конников свернули с дороги поглазеть на пленных.
- Чи наши, чи колчаки? - подивился седобородый партизан.
- Колчаки, -- презрительно отозвался молодой с бритым и румяным от мороза лицом. -- Это они защитного цвета понацепляли: красны, мол.
Партизаны были в чёрных полушубках, в черных пимах. На чёрных папахах -- наискось -- красные ленты. За спинами -- кавалерийские винтовки.
- А хто тама, вон . отдельные люди?
- Барины больно .
Чёрные конники повернули к американцам. Коркоран сосредоточенно полез на железнодорожную насыпь -- поближе к своему мягкому купе.
- Какой веры?
- Что, что? -- засуетился проповедник.
Круглые очки и концентрические складки его круглого лица выражали испуг и самую любезную готовность. Он беспомощно повернулся к Радченко.
-- Что, что? |
-- «Год» по-ихнему бог, а «бог» по-ихнему клоп, -- усмехнулся переводчик.
-- Кло-оп? Ну, ты?
Седобородый взглянул на борчатку Радченко, соображая, в каком она может быть отношении к форменным добротным шубам цвета хаки? Раздумал спросить, отвернулся.
- Оно так и есть: гады, -- заключил он, натянув повод.
- Что, что? -- потел Коркоран.
Конь партизана скривил губы и посмотрел на него свысока черным блестящим глазом.
Вдруг, свистнув, рядом проскакал красный кавалерист.
-- Посторонитесь! -- крикнул Радченко, отодвигая американца.
Вдоль эшелонов, по насыпи, мчались всадники и подводы с красноармейцами. Они мчались на восток, на помощь Иркутску, нескончаемой быстрой лентой. Радченко вспомнил проклятые свиные туши в Чикаго и преисподнюю кочегарок «Мессенжери Меритим». Кровь его потекла быстрее.
Радченко закричал, всё еще выбирая слова, смутно помня о своей роли: «Эй, Вы, мистер священнослужитель, смотрите . Russia comes!»
-- Россия идет!
Россия означала грозное: Революция.
Коркоран стоял, истукански глядя на конвейер Красной конницы.
-- Russia comes! … Революция идет.
Революция шла на восток.
Сибирские огни,1933, № 1-2, С.85-95
Примечания
¹ каппелевцы -- войско генерала Каппеля, состоявшее из одних офицеров.
² Вальсингам -- герой трагедии А.С.Пушкина «Пир во время чумы».
³чалдоны -- название первых русских поселенцев в Сибири и их потомков; иногда использовалось с негативным оттенком.
⁴ антимис -- четырехугольный льняной или шелковый плат с изображением Христа во гробе (ранее — креста с орудиями страстей) и четырех евангелистов по углам, и с зашитыми частицами мощей.
Л Ю Д И
Рассказ
I
Аэродром был сер, -- Чанцев отметил это про себя, так как показалось новым после зелёных аэродромов России. Между каменных ангаров мелькнул, у края левого крыла, массивный паровой каток. Ясно, им выгладили всё это слепое поле с большими бельмами опознавательных знаков. Коснувшись колесами «К4» (нового выпуска), пилот ощутил ровный и твердый грунт, годный для самых тяжелых машин. Чанцев почему-то по-мальчишеcки зарулил к ангарам; перелет сюда был до конфуза легок, воздушный океан дремал, точно аквариум; на дне были пашни, луга, дороги, -- всюду, где бы ни сдал мотор. Чанцев смущенно дергал рукоятку газа и встал на землю, покраснев. Его торжественно встречали, а весь риск был впереди: там, за черепицами остроконечных крыш, голубели горы. Елтышев, борт-механик, весёлый русский человек, испытывал еще большую неловкость и сразу, без оглядки, занялся мотором. У Елтышева было не последнее "brevet" * авиатора, но он выпросился в этот полёт, как бывший механик, затосковав на аэродромах, на испытании машин, на инструктаже, -- повседневной неяркой работе. Теперь он думал, что заграница это -- прежде всего враждебная, хитрая дипломатия, и решил побыть за спиной Чанцева, который, по его мнению, знал не только дело, но и разное там обращение, как старый военный летчик. К аэроплану шел человек в сером европейском костюме. Человек в сером шел медленно, но все-таки казалось, что он торопится, так быстро мелькали взмахи чёрной блестящей трости. Чанцеву из-за этой неестественности вспомнились какие-то вымышленные образы, вероятно, русских авторов, любящих изображать иностранцев механическими людьми.
-- Эц, авиатор, -- сказал подошедший.
Он произнес приветствие от аэроклуба, -- слова, которые потом плохо запоминаются и похожи на многие другие. По-русски Эц говорил протяжно, но правильно. Чанцев подумал, что поэтому, как знающего язык, его и послали встретить их. Эц закончил обычным лестным отзывом о достижениях советской авиации и еще насчёт смелости предпринятого полёта. Тогда Чанцев замахал руками и охотно перевёл разговор на данные своего аэроплана, действительно
необычные. Эц мягко улыбнулся. Это была новая военная машина, входившая в эскадрилью "Ответ консерваторам", но, вместо защитных цветов, из приличия, самолёт был окрашен блестящей алюминиевой краской и назывался почтовым. Эц смотрел, оценивая, как наездник чужую лошадь, пока вбивали колья. И от лучей ли закатного солнца оранжевых тонов, или от профессиональной страсти, строгие его глаза разгорались большим огнём.
Вечер шел привычно. Авиаторов отвезли в отель и, когда оба они посидели в ванне,
---------------------------------------------------------------------
* brevet (франц.) -- пилотское свидетельство.
оделись в новые костюмы, их пригласили ужинать. В полётах почти всегда приходилось есть на ночь, и Чанцев, у которого уже были заметны седые волосы, начинал подумывать о своем желудке. Чанцев предпочитал жидкое, суп, на званом же ужине аэроклуба были вина, от которых Чанцев, к общему почтительному удивлению, отказывался, так как принципиально не пил во время больших полётов, -- закуски, дичь, сласти. Чанцев воздерживался от этой непереваримой, как он полагал, снеди и встал из-за стола голодным. Ему представился ночной ресторан, сытная eда по своему рецепту, музыка, всё особенно почему-то привлекательное, так как, для него это представлялось как раз тем, что по преимуществу и принято называть "Европой". И Чанцев попросил Эца «показать город». Эц поспешно согласился. Он оживился даже, выдавая неожиданное одиночество. Их, естественно, влекло друг к другу. Авиаторов их возраста почти не осталось; молодым же порой завидуешь. Чанцев заметил, что в темных волосах Эца были такие же серые линии, как и у него.
-- Очень приятно, очень приятно, -- повторял немец, но бритое лицо его оставалось бесцветным, болезненным, и Чанцев, отворачивался в тень, как будто взял лишний кусок с общего стола, краснея за свой, всё ещё непобедимый румянец.
Автомобиль с булыжной мостовой влетел на бесшумный асфальт центральных улиц. Чанцев заулыбался от ощущения покоя и безопасной безответственности, если можно так выразиться. Он боялся летать на самолете наблюдателем, пассажиром, когда рули держал кто-нибудь другой, а здесь на этом прямом уличном полу можно было довериться и женщине.
Городок жил какими-то слабительными водами, истекавшими из предгорий. Он двести лет считался курортом. Это была выгодная слава и было выгодно на эту славу не скупиться. Чанцев смотрел: улицы вымыты, самый сильный ветер не поднимет пыли, не то, что у нас, в стране базарных самумов. Широкие бульвары городка были обнесены металлической решеткой и вдоль тротуаров у невысоких, но, несомненно, таких же благоустроенных, зданий -- отдельные деревья, яблони и груши, загороженные одинаковыми металлическими кружками на шести подпорках. Движение не было большим, но каждый раз, когда проходил редкий вагон трамвая, зелёные огни на перекрёстках заменялись красными, и все экипажи и пешеходы останавливались, пока вновь не появлялись зелёные огни. В одну из таких остановок рядом встал шедший позади автомобиль, и Чанцев увидел в нём того же самого обыкновенного, корректного вида европейца, что прохаживался в коридоре гостиницы и потом молча сидел напротив за ужином. Всё это казалось таким незыблемым и спокойным, что Чанцев вдруг стал томиться не то от желания сделать мертвую петлю, не то брякнуть бутылку посреди улицы.
II
-- Значит, вы, можно сказать, москвич, земляк?
-- Да. У меня было там свое дело.
Перед Чанцевым испарялась экзотическим ароматом "московская селянка", Елтышев глотал пиво, каждый раз шумно дивясь его качеству, Эц намазывал на тончайший ломтик острый сыр и понемногу пил белое вино.
-- Это квас, квас -- повторял Эц, очень довольный тонкостями своего русского языка.
И Чанцев действительно постеснялся распространить свое полетное табу на «квас» Эца. Он тяжело прихлебывал вино, кисловатое и терпкое, как проба на язык электрического тока.
Оркестрик наигрывал фокстроты и еще какие-то дикие танцы цивилизованных стран. Авиаторы улыбались, впрочем больше не от фокстротов: в ресторанном зале было много длинноногих женщин, в юбочках выше колен. Женщины были нарядные и легкие. Мужчины, как все мужчины своего класса и времени, одевались тяжело, потея в крахмальном белье; но даже Елтышев не испытывал неловкости: рестораны Москвы, где лысые нэпманы позируют в толстовках, были ему противнее.
Эц, естественно, расспрашивал о России. Для него, для европейца, страна эта вот уже 10 лет была источником, прежде всего, удивления, не без испуга, правда, как легендарное какое-нибудь азиатское царство. Недаром журналы, посвященные Азии, больше всего печатали о России.
Впрочем, русские сразу обнаружили свою маниакальную манеру говорить не о том, о чем хочется собеседнику, сводя разговор к неудобным и неразрешимым вопросам. Чанцев заговорил пространно и путано, что ничего, мол, жить можно. Что касается коммунизма, если кому не нравится, то его, собственно говоря, не очень густо и, в общем, жизнь разнообразная.
-- Есть и хорошее и плохое, -- подводил итоги Чанцев, немного неожиданно для него самого, -- но самое скверное, господин Эц, от России совершенно, я думаю, не зависит!
Газеты еще недавно били в набат по поводу очередных осложнений на Западе. Чанцев был честен. Он говорил:
-- Да, будем драться, если придётся, беспощадно. Пусть увидит Европа, что и в технике мы не так уж отстали. Но, между нами, господин Эц. я думаю. Вот, если бы сошлись, например, ну, два писателя, что ли. Ну, не какие-нибудь, а настоящие. Стали бы они палить друг в друга? Ведь не стали бы! Можно сказать, что мы, до некоторой степени, тоже люди искусства. Разве, не правда? Да. нет, пора, знаете ли, пора!
-- Эх, нет у тебя настоящей классовой линии! -- вздохнул Елтышев.
Эц попытался отделаться шуткой. Этот непривычный диалог оглушал его сильнее джаз-банда.
-- Можно было бы никогда больше не воевать, -- сказал он, -- если бы не было ваших большевиков и проклятых англичан.
-- На счёт англичан это да, -- торжественно ляпнул Елтышев. -- Но я большевик и я могу вас заверить.
-- Вы большевик! - привстал Эц. Простите, я не знал.
-- Товарищ Елтышев партийный, -- подтвердил Чанцев, зачем-то краснея.
-- Кто же из вас главный?
-- Вы думаете, у нас как большевик, так и главный? -- разозлился Елтышев.
-- Да. ну, так мне сообщали.
-- Нет. Да это и не важно. На первом месте у нас дело. Дело!
-- Нет, прошли те времена и к лучшему. А раньше что было? Дело у нас теперь на первом плане. Дело!
-- Вы тоже из Гатчинской школы?
- Нет-с, я, знаете ли, нигде не учился.
-- А как же Вы начали летать?
Эц подумал, что удастся кое-что разузнать о большевистской подготовке.
-- Я? -- сказал Елтышев. -- Ну, не пожелал бы я Вам так начинать!
Елтышев проглотил пиво, дососал сигару. Ему надоело молчать.
Он ухватился за случай рассказать иностранцу знаменитую свою историю.
-- Я ведь из механиков, Вы знаете? -- придвинулся он к Эцу.
-- А случилось это на фронте гражданской войны. Только что я устроился по-хорошему в городе Омске и завёл бабу. Ну, как же!
Чехи, учредилка, эсэры: большевики, мол, немцам продались, надо воевать. Служил я сначала ничего. Всё равно, думаю, советской власти крышка: где же выдержать против всей заграницы! Но тут объявился Колчак, попёрли на фронт вместо чехов. Те норовят назад, объясняют; будет, повоевали, деритесь за свое генеральское дело сами, и вот, вижу я, хоть и не партийный я тогда был, я с 20-го году, но все-таки, понимаете, рабочий человек. Вижу, прут наши вперед; а войска эти, всех наций, только наш сибирский хлеб лопают, толкутся по станциям, да косо посматривают друг на друга. Наверно, не поделились. Мужики их по тылам бьют. Ну, словом, вижу: либо я настоящий белогвардеец и нет на меня такой поганой пули, либо должен я выявить, кто я есть. А давно уж я присматривался к одному фарману ¹. Смирная такая машина, летать давно хотелось. Только офицерье, простите, подобралось у нас хуже, чем в царской. Работаешь, подойдет полковник Шахов, начальник наш, ткнет сапогом легонько: "А ну-ка, -- скажет -- смажь, Иван, касторкой". Э, да что вспоминать лихое время! Словом, я и надумал. Стояли мы тогда на Тоболе, близ позиций. Выбрал я день пояснее, к вечеру. Завел мотор. Никто не подошел, полагая, что пробую. Сел я за рули. Сколько раз видел, как и что, а никак не могу успокоиться. Прибавляю газ по одному зубцу, и вдруг, чувствую, -- сдвинулся. Эх, думаю, всё равно, -- дал сразу полный. Катился я много лишнего и уж не знаю, как взял на себя рычаг. Лечу. Прямо лечу, боюсь пошевелиться; но вижу, что лечу правильно, на фронт. Через полчаса всё кончиться и буду я в другом лагере. Уж видел я большевистские окопчики и тогда, как раз на линии, -- бац! Взглянул я тут вверх и, так и есть, сразу узнал ньюпор ² капитана Ярыгина, хоть шел он надо мной едва приметный. Поднялась, конечно, стрельба. Ну, вижу, продырявили мне крылья, и тут, со страху, я прямо-таки моментально снизился. Хорошо, степи в тех местах ровнейшие. Попрыгал козлом и остановился совершенно целый. И ньюпора нет. Стало мне очень, понимаете ли, радостно.
Отстегнулся я и пошел навстречу товарищам: "нате,мол, -- дарю Республике самолёт.” Те ко мне бегом, с винтовками, как полагается, и первый же -- раз в морду. "Ты, -- говорю, -- что делаешь?" и так далее. " Я, можно сказать, от белых бежал." "А, -- говорит, и так далее, -- а бомбы кто бросал?" -- "Ослеп", -- говорю, -- "это капитан Ярыгин с ньюпора в меня целил". Тут подходит военный постройнее. -- "Не заливайте мол, гражданин, не ослепли: был один самолёт, а другого не видели и не слышали, а бомбы падали в точности". И, продолжает сразу, что " нечего, мол, нам с Вами канителиться и сейчас мы Вас стрельнём и будет вскорости, вместо меня, ровное место". Начал было я рассказывать, что и как. Тут опять все загалдели и винтовки налаживают, и вижу я, в самом деле расстреляют. Такое меня тут зло взяло и обида, что вот сколько перенёс, а смерть от своих же приму. Даже слёзы со зла вышли, честное слово! --"Расстреливайте и так далее", -- кричу. --"Стреляйте в рабочую грудь!”.-- Ну, словом, cказал я страсть здорово. Крыл с высоты десяти тысяч метров, извините за выражение. И вижу я, что-то вдруг не стреляют и рты разинули. Тут опять выходит главный. «А чем, -- говорит, -- можешь доказать, что по своей воле?». И осенило меня, знаете-ли, как свыше. Батюшки, соображаю, с этого-ж и надо было начинать! И отчего только жизнь наша зависит, как подумаешь. -- "Если, -- говорю, -- не по своей охоте, следовательно, машина испорчена, а если по своей -- цела". -"Правильно", -- ничего не могут возразить, -- "пойдем, значит, пробовать". Ну, а моторчик перед этим я весь разглядел. -- "Крути винт!" -- уж командую. Крутят. Дал контакт и даже вздохнул очень так легко. Сразу взял мотор.
- Ты, Иваныч, покороче размазывай, -- сказал Чанцев, -- музыка начинается. -- Да что уж может быть короче такой науки! -- крикнул Елтышев,загребая бутылку. – Так меня в лётчики и записали. Что тут сделаешь? Раз от белых прилетел, попробуй откажись. Признают еще саботажником. Всю войну пролетал, как говорится, задним местом: уходит сидение или жмет - только и чувствуешь. Талант, можно сказать. Ну я ничего, цел, видите.
Фрак дирижера взмахнул черными рукавами с огромными запонками в белых манжетах. Тогда, в сладкие волны шума, в цветные прожекторы сцены, влетели восемнадцать светлокожих девушек. На них ничего не было, кроме, дикарских каких-то ярчайших, лава-лава. Груди были обнажены. И казалось неправдоподобным, что здесь, именно здесь, раздавались такие далёкие тревожные русские слова. Мысли авиаторов клубились, как серые облака под крыльями, Чанцев смотрел и черные глаза его раскрывались безумно.
-- Ах, -- сказал он тихо, и Эц вздрогнул – вырыть бы вдоль нашей границы колодища до того слоя, где земля теряет твердость, да так бахнуть, чтобы вы отъехали со всей вашей Европой в океан, в Америку. Вот бы зажили! Города наши плохи, а земля пустая. Нам бы с этой землей воевать! И чтоб никто нам не мешал. Америка и Азия.
-- Сережка! - крикнул Елтышев.
Чанцев оглянулся. Позади, за соседним столиком, сидел, в позе мечтательного созерцателя, его прежний, самый обыкновенный, незнакомец. Мысль об исчезнувшей было ответственности снова напала на пилота. Он относился к своему делу, как профессионал, но он понимал, что в такое время каждый заграничный полет, это -- "вещь большой политики".
-- Чёрт, квас, оказывается, действует!
-- Не следует смотреть так мрачно. Развлекайтесь!
-- Если бы Вы знали, господин Эц, до чего нам надоело драться! -- ответил Чанцев, извиняясь.-- Как подумаешь про новую войну, так все бы и разорвал! А что сделаешь? Оттого и в делах спешишь, и себя не бережешь, и оттого, кажется, даже девочки не берегут своей невинности.
-- Понес! -- отмахнулся Елтышев.
-- Вы не можете этого понять. Вы-то счастливец. Вы не воевали.
Эц гневно выпрямился.
--Что Вы! Как Вы могли подумать такое!
- Простите, -- удивился Чанцев. -- Простите, пожалуйста! Но, ведь, Вы жили в Москве?
-- А, вот что.-- Эц успокоился и сел. -- Нет, я своевременно уехал в свое отечество. Я сбил одиннадцать союзников, и, если хотите знать, буду драться снова, когда позовут,, без всяких этих рассуждений!. Я имею орден "За заслуги'".
-- О! -- почтительно сказал Чанцев. -- Случалось сбивать наших?
-- Нет, не повезло. Я сразу получил тяжелое ранение на восточном фронте.
Эц похлопал тростью свою вытянутую вдоль стола ногу, издавшую звук выколачиваемого чемодана. -- "Можно было догадаться!" -- подумал Чанцев.
-- Я мальчик, в сравнении с Вами, -- сказал он, чтобы польстить. Он на самом деле почувствовал, что был несправедлив к немцу. -- Я сбил только двух. У нас было мало машин и мы, обычно, удирали без боя. Одного на Двине и одного у Золотой Липы.
Острый ток скрючил Эца. Кожаная нога его дернулась.
- На Злото-Липском фронте? -- спросил он через минуту. Он опять казался спокойным. -- Когда?
- Это было 9-го августа, на рассвете.
Авиаторы сидели рядом, пили вино. Они были одинаково хорошо одеты, чисто выбриты. Порой они подсвистывали и аплодировали ловким girls.* Они ничем не отличались от других. Они отдыхали, но рядом, совсем близко, и тогда же они смотрели на свой мир, где всё летело, качаясь в петлях, виражах, вихрях, в грохоте и буре.
-- Да, это была молодость!
Чанцев возвращался с разведки. Он выполнил задание, он заработал право на
еще один безопасный день, жизнь, бой, страх -- какой у них был крепкий радостный вкус. Чанцев закипал горячим счастьем игрока. Близко, так близко, что он их услышал в рычании мотора, уныло и жутко взвизгнули пули. Враг был выше; значит враг был сильнее. Чанцев уходил, извивался, бросался в стороны, но немецкий альбатрос был еще проворнее и настигал неумолимо. Пуля пробила бак, струя бензина ослепила на секунду. И на секунду Чанцев растерялся. Тогда, от мгновенного отчаяния и странной злобы на это свое грозное отчаяние, он твердо потянул к себе рычаг рулей. И когда мир опрокинулся дыбом, впереди в зените, он увидал колючие кресты немецкого самолета, и рука без команды нашла пулемёт. Борьба была недолгой. Теперь же казалось, что аэроплан переворачивается медленно, как стрелка альтиметра, когда идёшь вниз с большой высоты. И так же медленно, словно удары шпаги, пронизывали пули разъяренное осиное тело вверху. Чанцев помнил, он быстро выправился и сразу увидел, что альбатрос пикирует, беспорядочно валится в гибель. Чанцев засмеялся от своего злого счастья: он снова был один в небе. Так падать мог только труп.
- Теперь бы мне этого не сделать. Нет прежнего перцу, -- дымно изрек Чанцев.
- Девятого августа? -- пробормотал Эц; -- но на Злото-Липском фронте был сбит только один наш аэроплан. Это было в двадцатых числах.
Да. Фатерланд -- Император -- Доблесть. Всё было тогда просто. Эц первый заметил своего противника. То был пятнадцатый. Пятнадцатый крест на борту, -- приятная цифра. Эц рассчитал курс и ушел в облака, чтобы не спугнуть жертвы. Когда
--------------------------------------------------------
* girls – девушки (англ.).
крепкие удары сердца отсчитали нужное время, он нырнул вниз и в зелёном и голубоватом мире, ставшем вдруг неподвижным после седого ветра облаков, увидел крылья с ненавистными цветными кругами. Русский вертелся, уходил, не давался сразу; но у Эца было слишком явное преимущество высоты и скорости. Прицел его становился всё точнее. Вот, - русский качнулся. И тогда Эц услышал этот странный удар в левую руку. Эц невольно дернул рычаг и вдруг ощутил смертельную его легкость. Поврежденный трос лопнул. Эц помнил свое падение всё, каждый миг. Оно казалось нескончаемым. Альбатрос падая, как осенний лист, выправлялся и опрокидывался снова. А кукла, солдатик его маленького сына Вильгельма, взятая на счастье, таращилась в углу кабинки по-прежнему невозмутимо храбро! Поле внизу суживалось и приближалось, как пейзаж в зеркальной камере. В последний раз аэроплан выправился в нескольких десятках метров от ярко-зелёного и головокружительного дна. Потом мгновенно стало темно, как будто от удара он ушел в землю. Было очень тяжело разгребать эту чёрную землю, выбираясь к свету. Наконец, он увидел небо. Белые облака. Но нет, -- это были белые халаты, белая марля, тяжелые белые простыни и неподвижное, как бревно, тело.
-- Нет, я помню точно. Девятого, на рассвете.
-- Да, это было утром.
-- Вы, может быть, знали убитого? -- Чанцев хрипнул.
-- Да, что-то припоминается. -- Эц поднял голову. -- Всех, ведь, немного знаешь.
-- Вот, я думаю. Летаешь, летаешь так и встретишь мать, жену, брата. Вам не приходилось?
-- Я не думал начинать разговор на такую тему.
-- Вы хотите сказать, что это Вам неприятно.
-- О, нет! Что за пустяки. Да. Вы говорите девятого? Но ведь это же по старому стилю!
-- Ах, совершенно верно. Тогда считали по-старому.
-- Значит, 22-го утром?
-- Двадцать второго.
Эц встал.
-- Ни-ноч-ка!
Опять в шуме чужой речи, смеха, открываемых бутылок, показалось странным это имя и этот очерствевший голос.
-- Вот, господа, эта дама -- русская. Знакомьтесь. Я должен просить прощения. Я должен уйти.
Чанцев помедлил, взглянул на женщину и на стрелки часов.
-- Мне тоже пора. Старт назначен в шесть.
-- Как? Уже? -- обиженно сказала танцовщица.
-- Вы знаете, полёт .
-- О, с Вами побудет господин Елтышев! Не правда ли? Он большевик. Это очень интересно.
Елтышеву не верилось в такую удачу. Он взглянул на Чанцева.
-- Ладно! -- сказал авиатор. -- Ты выспишься в самолёте.
Они расплатились.
-- Так Вы большевик?
Ниночка села за столик.
Чанцев поморщился от мужской зависти. Хорошо было бы поспать с женщиной, но завтра самый трудный день. Нет, женщина это всегда -- финиш. Она не годится перед стартом.
Они вышли в сквер. Город был тих. Только далеко где-то пело радио. Электрические фонари задёрнули небо сухим туманом.
-- Она -- дочь русского священника, а теперь очень доступна, -- сказал Эц. -- Как перепутан мир!
- Не нахожу, что хуже прежнего, -- сказал Чанцев.
Он крепко пожал руку Эца.
Эц думал: "Сказать-ли?" Но зачем?
Мир был так перепутан. Вот он провел вечер, он пил вино. Два этих парня . Один думал, что был его убийцей, а другой -- большевик. Один был настоящий спортсмен, настоящий товарищ по профессии. У него было смуглое тело атлета и невесёлые мысли. Другой -- курносый здоровяк, с таким живописным способом летать. Нет, они должны были быть другими!
Эц ответил на рукопожатие и сказал обычную вежливую фразу:
-- Надеюсь, мы еще встретимся .
Эц долго бродил по комнатам пустой богатой квартиры. Здесь когда-то бегал его мальчик, кричал: папа! Мальчика увела женщина; она не могла вынести кожаной ноги и кожаного корсета. Он ненавидел её. Ненавидел за последнее отнятое счастье.
-- Папа, папа ! -- жаловался Эц, подражая ребенку.
Он бы отомстил ей сейчас! Она была хуже этих русских, потому что русские были честные враги. Но её не было, а русские были. Мир был перепутан. Эц должен был что-то сделать и не мог решить. Он устал. Лучше лечь спать и спокойно подумать днем. Hо день уже начинался. Эц выключил ток. B комнате было светло.
Эц оделся. В передней он толкнул боковую дверь. В маленькой выбеленной комнате спала, разметавшись на широкой кровати, его молодая горничная. Она сонно вздохнула и, не открывая глаз, покорно подвинулась к стене.
-- Закройте дверь, Луиза, я ухожу. -- сказал Эц.
III
Чанцев шёл по аэродрому, закинув голову, всматриваясь в облака, плывшие напротив, с гор. Горы не хотели сдаваться без боя. Голова от прерванного сна, была как будто с похмелья. Облака клубились. Пилот нюхал воздух, различая знакомые запахи влаги и встречного ветра.
Из-за самолёта «К4» вышел Эц.
-- С добрым утром! -- сказал он.
Чанцев остановился (ему снова показался неестественным этот громкий привет). Чанцев отмахнулся от своих непрошенных дум и пошел навстречу, бормоча, что полагается, о том, как это неожиданно и хорошо,
-- Мой долг, мой долг, -- отвечал немец.
Кстати подъехал Елтышев на бочке с горючим и разговор переменился.
-- Наша задача -- лететь по прямой, -- сказал Чанцев, хотя он не должен был говорить об этом до конца полета. -- Вот и всё. Вече- ром я пошлю Вам телеграмму.
Эц отворачивался и смотрел вверх.
- Вам придётся лететь вблизи Мон-Розы, -- говорил он. -- Могут ли русские моторы конкурировать с моторами лучших фирм? Я подождал бы лучшей погоды, что, если Вам придется снижаться в облаках?
- Нет, мотор надёжный, -- тускло ответил Чанцев.
Ему было неприятно, что посторонний высказывает такие очевидные предостережения, зная, что выбора нет. Он отошел к аэроплану.
-- Готово, Сергей Петрович! -- крикнул Елтышев.
Чанцев улыбнулся от ровного и легкого разбега. Он взял предельный угол и пошел ввысь. На повороте в последний раз увидел Эца. Немец стоял, по-прежнему подняв голову, губы его были почему-то полуоткрыты и рука приподнята, как-будто он забыл сказать что-то. Чанцев проверил курс, послушал машину и ему стало легко. Он удобно откинулся на мягкую спинку кресла. Теплый ветер бил в лицо, ветер тяжелый и всё-таки освежающий, как электрический душ.
Чанцев прожил в воздухе не одну тысячу часов и с каждой тысячей острее ждал успокоения полёта, Жизнь не давалась даром. Он сделал больше километров, чем от Земли до Луны; но земля всегда грозила опасностью. Жизнь на воздушном дне, если подумать холодно и точно, не была хорошей. Только здесь, за рулями, он больше всего был человеком, свободным и спокойным. Он смотрел вперед. Там, в горах, облака были сплошные; но, всё равно,-- он давно решил подняться выше них, выйти к солнцу и верить в удачу.
Позади дремал с открытыми глазами Елтышев. Он провел хорошую ночь и улыбался от того же знакомого ощущения свободы. Это походило на 1917 год, когда он в первый раз вышел из тюрьмы. И Елтышеву стало даже страшновато: ведь, по неизбежной логике, вместо тюрьмы, невольно подставлялись -- партия, служба, жена .
Голубели горные дали.
Чанцев поднимался выше. Заметно расширялась при дыхании грудь. И теплота исчезала вместе с воздухом. Она казалась осязаемой, плавала у земли и пропадала навстречу холодному блистающему солнцу. Чанцев постепенно застегнул все пуговицы и крючки теплой кожаной куртки.
Облака плыли многими слоями. Сверху они были белые и глухие, как вата. Все меньше становилось просветов с темными лесными склонами и лоскутными полянами долин. И, наконец, когда ясно надвинулись первые снеговые вершины, облачное неровное дно растеклось прочно, повсюду.
Чанцеву вспоминалиcь рассказы и очерки, посвященные авиации, за которыми он следил. Там встречалось много торжественных словечек, вроде – неизъяснимый, невероятный, чудовищный /ая, ое/ по поводу самых обыкновенных вещей: скорости, облаков, ветра. Он, не замечая, испытывал приятное сознание превосходства над авторами. Ему было забавно читать, что привычные полеты, в которых приходилось участвовать этим, очень, в сущности, боящимся за себя людям, всегда выдавались чуть ли не за рекордные. Рассказывалось, например, как едва не оторвало руку ветром, когда писатель прощался с провожавшими, а потом выяснилось, что машина-то была малосильная, и "ветер", то есть скорость, была, значит, не велика.
Стрелка альтиметра поднималась к 4 тысячам, но горизонт был ровен и низок. Из облаков нельзя было выйти, вероятно, раньше, чем через час. Чанцев слушал мотор. Нет, в нем не было никаких шёпотов предательства.
Так он летел, слушая песни радостно освобожденной силы. Вдруг под ногой густо скользнуло что-то неприятное и жирное. Так, давно-давно, в детстве, он, мальчик Сережа, раздавил жабу.
-- Масло! -- закричал механик.
Чанцев поморщился: это было неделикатно, -- ведь он, может быть на секунду раньше, заметил опасность.
Контрольный аппарат, на который Чанцев обращал всегда меньше своего внимания, вопил последним килограммом горголя ³.
Пилот не испытал ни страха, ни досады. "Что ж, так ведь должно было случиться когда-нибудь". Чанцев посмотрел вниз, на белое лишенное волн море, бесшумное, как мертвый с виду капкан. Снизиться туда -- последний шанс. Поэтому нельзя идти вперед, ожидая скорой остановки мотора. Чанцев повернул к снежной клыкастой вершине, поднимавшейся над всеми облаками, словно единственный в море айсберг. Там надо было найти ледяную площадку и остановиться. Чанцев шел туда с высоты. Он ничего не видел, кроме скал и отвратительного ледника, покрытого трещинами и моренами.
Вспомнился летчик Земзеров, черный и ревнивый, завидовавший ему. Чанцев увидел его довольную улыбку и нахмурился. Так он горячо думал и злился, как будто они были рядом, и еще потому, что все это не нужно, ложь: ведь, может быть, над облаками не найдется ровного места и надо будет уйти в их нежнейший омут, где зубья скал и мгновенная смерть. Иль, может быть, снова ясность, широкая долина, луга и пашни!
Ему привиделось приятное зеленое поле. Он коснулся его и прокатился шутя, как бильярдный шар. Нарядные крестьяне бежали к самолету, можно даже переночевать в их деревне, подождав лучшей погоды (в награду за такие хлопоты) и попробовать не выйдет ли чего с девушками. Вот с той, весёлой .
Поле поседело от снежных одуванчиков. пК 4" миновал вершину и на другом склоне пилот увидел отлогую снежную террасу. Высокие каменные стены держали ее с трех сторон. Она походила на белое атласное сидение легендарного трона, оставленного вымершими великанами.
И опять Елтышев не удержался, крикнул: "Вот!" На этот раз Чанцев свирепо махнул в зеркало кулаком, и Елтышев замолчал окончательно. Он знал, что руки, всё тело пилота, теперь -- одно сознание, более мудрое, чем всегда отстающие мысленные выводы. Он пожалел, что нарушил равновесие этого телесного разума. Но Чанцев сделал еще один широкий круг, измеряя террасу, всматриваясь в зернистый снежного цвета лед, чтобы забыть все свои мысли.
Он уловил, следя за обрывками высочайших облачных косм, приблизительное направление ветра и ринулся, под углом, на каменную кручу, покрытую толстым слоем фирна, у верхнего края которого начиналась площадка. Чанцев коснулся её в 10-15 метрах от грибообразного ледяного края и все-таки мгновенно и смутно упрекнул себя, что надо было снизиться еще смелее, у самого отвеса. Здесь каждый метр мог стоить жизни .
Железный опорный костыль скользил по льду, а аэроплан стремился вперед неудержимо. Поверхность, представлявшаяся сверху совершенно ровной, была изъедена отлогими желобками, по которым днем стекала вода. Самолет раскачивался, как сошедший с рельс вагон. Чанцев отстегнулся быстрым привычным движением, чтобы выброситься из кабины, если колеса не выдержат и аэроплан перевернется. Но скоро начался заметный подъем, и скорость облегченно исчезла. Впереди, почти на излете, надвинулись крупные обломки основных пород. Чанцеву пришлось пропустить один из них между колесами, что казалось безопасным, так как колеса не были соеденены осью; но за обломком, в нескольких метрах, лежал второй, и, когда хвост подскочил на камне и пропеллер опустился, Чанцев ощутил упругий мгновенный толчок.
Сердце глухо метнулось.
Самолет остановился.
Елтышев прыгал по льду, озираясь.
-- Мы здесь поднимемся! Мы здесь поднимемся!
Пропеллер еще вертелся, почти бесшумно. Чанцев тревожно повернул выключатель.
Глухота тяжело накрыла горы, словно голубой колпак небесного глушителя. Елтышев перестал прыгать. Пропеллер был сломан. Запасного пропеллера не было.
Чанцев стоял сгорбившись. И у него было такое же ощущение успеха и растерянности, как после одного недавнего свидания. Девушка быстро увлеклась и целовала его горячо, но почему-то так и не отдалась в тот вечер. Она смешно боролась (ну, как она могла с ним бороться?), и он вдруг отказался от любимого маленького насилия, которого она ждала. Он думал, отчего бы это?
Чанцев сосредоточенно рассматривал ребро излома, прикидывая, сколько времени займет канитель с доставкой сюда пропеллера, и злился: неужели размяк? Но нет, пустяки! -- Это всего лишь от желания нового в приключении.
Решив задачу, он выпрямился.
- Ну, Иваныч, придется сбегать в ближайший, как говорят, населенный пункт, -- сказал он. -- Нам нужен только пропеллер. Так я говорю?
- Только пропеллер, -- кивнул Елтышев.
Он внимательно ощупывал вымазанный маслом аэроплан.
-- Сели здорово. Это будет, можно сказать трюк, если поднимемся.
-- Черт! Помнишь, я говорил, что надо взять запасный винт? Так нет, Земзеров, сукин сын, засмеялся, вы, говорит, не в Азии полетите, а в культурной Европе. Ну, и вышло хуже, чем тогда в Сибири! А?
Елтышев потемнел. Его черные от смазки пальцы осязали острые края трещинки маслопровода.
- Смотрите, как будто нарочно, нарочно!. Но никого же не было у самолета?
- Ну, ну, ну! -- закричал Чанцев, заглушая свои мысли (Эц сказал «С добрым утром» и вышел первый). -- Оставайтесь здесь и запаивайте трубку. Я пойду вниз.
- Есть! -- хмуро отозвался борт-механик.
Чанцев все еще ступал осторожно, как будто мог провалиться, такого снежного цвета был этот лед. Так Чанцев подошел к обрыву. Был полдень. Облака внизу были белы. Там, где они, крутясь разрывались, прятался сумрак, облака сыпали снегом. Чанцев взглянул на однообразную линию ледяного карниза и в первый раз подумал: «А где же выход?» Кровь его ударила волной. Даже пилоту здесь стоять было неприятно! Ведь в руках не было рулей.
Чанцев подошел к ближней правой стене посмотреть, каков ее противоположный склон. Чанцев взбирался медленно, ругаясь и негодуя. Он не любил гор, то есть не любил подниматься на горы, ходить по горам. Просветление высоты, сладкий самообман, большой горизонт и, по-настоящему, солнце и воздух - все, ради чего и процветает альпинизм, давалось ему в несколько минут взлета, вместо долгих, ползущих вверх и вниз часов.
Внешняя сторона стены была неприступна. Весь день Чанцев карабкался вдоль гребня и везде, налево от него были кручи, внизу облака,- один и тот же мир - стылый, седой, сказочный. К вечеру облака поднялись выше и вдруг залили ледяную террасу, Чанцев взглянул на запад, там рдели огни заката.
-- Западня! – подумал Чанцев.
Он спустился рассказать о таких делах Елтышеву. Мысль кружилась однообразно: "Пожрать бы!" Чанцев вспомнил, Елтышев захватил с собой булку и колбасы. В походной фляжке у него всегда был коньяк. – Сожрёт, - думал Чанцев. Он пошел скорее и сразу выбрал верное направление среди темневшей облачной мглы, и нашел аэроплан. Но Елтышева нигде не было.
Иван Иваныч! -- закричал Чанцев.
-- Ныч-ыч! - дико ответили горы.
Елтышев не отозвался. Чанцев кричал, пока его не перекричали горы, с каменной настойчивостью.
- Ныч-ыч!
- Ныч-ыч!
Пришла ночь. Чанцев скрючился в своей кабинке. Он проснулся от свирепого холода. Было ясно. Чанцев завертелся от боли и страха. -- Елтышев, -- свалился окаянный! -- думал он; но у него были и приятные мысли: вот, Елтышев спустился где-то и значит скоро явится с людьми, пропеллером, с едой. Вдруг, у нависшей скалы, загорелось ярчайшее желтое пятно. Это могла быть только парадная Елтышевская рубашка, вывезенная из Урги. Чанцев -- побежал. Рубашка была беспощадно распластана и пришита к брезенту. Рядом стояло ведерко с бензином. Чанцев отдернул полог. Под каменным навесом урчала паяльная лампа, поставленная пламенем к скале. Елтышев проснулся и сел.
- Ну, что, Сергей Петрович, дела наши плохи? -- сказал Елтышев; но от теплоты, от того, что он больше не один, Чанцев повеселел.
- Ты изобретательный человек, Иван Иванович. С тобой не пропадешь.
- Механика! -- зевнул Елтышев.
- Дела, дорогой, плохи.
IV.
Елтышев не съел булки и колбасы, он съел немного, но как ни делился он честно с Чанцевым, на третий день оба проснулись в голод злой и страшный. Елтышев хлебнул из фляжки и закрыл пробкой.
- Дай!
- Ты, ведь, не пьешь, — скривился Елтышев.
Накануне они еще раз вместе обошли гребень. Елтышев нашел узкий каменный сдвиг, пояс, "бомчик”, как назвал Елтышев. Они шли по нему вниз, и снова вверх много часов, пока "бомчик" не вывел их на широкий лед. Они кричали от изнеможения и радости и через минуту увидели свой аэроплан. Больше они не пытались выбраться. Тогда в жестком мешке их пещеры, при лиловатом свете паяльной лампы, Елтышев cказал, чтобы отделаться от своих дум,
-- Это, я думаю, никто другой, а этот самый херр Эц.
- Что?
- Он маслопровод ковырнул. Больше никого не было. Впрочем, кто виноват? Мы есть сущие дураки. Я, мол, большевик, здрасьте, пожалуйста, а я два ваших самолёта сбил. Потом я узнал, да он сам говорил, что был у него магазин в Москве, потом его разгромили, а большевики доконали. Нечего сказать, приятель. Пьем, говорим, а он, может, фашист!
Мысли мучили Чанцева еще раньше, он понял сразу, но спросил: "Что?" из какой-то последней самозащиты.
-- Какие у тебя основания? А ночью ты был на аэродроме? – напал он на Елтышева.
Думая обо всем этом Чанцев подошел к обрыву.
Елтышев с утра молча взялся за работу. Ругань больше не помогала, поэтому он перематывал амортизацию, мыл замасленный фюзеляж, повернул самолет к обрыву, как будто перед стартом, потом Елтышев оставил самолет и стал методично выколачивать топором ледяные неровности по линии разбега. От работы Елтышева Чанцева мутило еще больше. Всё казалось ненужным. Он поднялся на край гребня (на правую ручку великанского трона), где можно было лечь, докуривая последние папиросы.
День был ясный, совершенно пустынный. В небе голубом и ровном у снежных вершин ни одного клочка влаги. Горы, льды. От них блеск и холод, высокое солнце; от солнца на лице зудящие ожоги. Пики, столбы, груды. Дали гор голубые, расплывчатые, как воздух. С белой, самой сверкающей вершины течёт неподвижная река глетчера. О нем, о леднике, у Чанцева были свои мысли.
- Сидеть и ждать помощи? -- медленно, как ход ледника, думал Чанцев.
- Ну, ладно. Сегодня, положим, догадаются телеграфировать в Москву, что самолет пропал. День. Назначают заседание. День. Вынесут постановление. День. Обратятся к швейцарскому правительству. И обязательно забудут указать маршрут!
Чанцев перестал считать дни. Корчась от голодного гнева, он видел: швейцарцы справятся на счёт платы и потом объявят что-нибудь в роде премии за находку трупов. Так погибли когда-то два итальянских летчика. Их нашли замерзшими в одной из таких ледяных ловушек.
Нет! На людей надеяться, двадцать раз сдохнешь! Много ли может человек прожить без еды? Любой паучишка даст сто очков вперед.
Чанцев увидел камень, почти отделившийся от скалы. Он оторвал его и бросил вниз. Камень загремел эхом многих шумов.
Черт! Надо было не отказываться! Надо было нажраться на банкете, пока не стошнило. Тогда бы долго не хотелось есть.
Он вспомнил все эти покорно стоявшие перед ним блюда, -- райское изобилие еды. Какой близкий рай!
-- Надо действовать! -- решил Чанцев и остался неподвижным. Он вычислял.
— подкатить самолет к обрыву, спланировать, идти вдоль глетчера, и глетчер, наверняка, приведет в какую-нибудь коровью долину.
Он купит большой хлеб и четверть ⁴ молока. Чанцев пососал льдинку.
Нет, на такой тяжелой машине не спланируешь.
-- аэроплан едва выправился, набрал скорость и грохнулся о серый, вот этот, выступ.
Ладно! Выкинуть мотор, вылить бензин, вышвырнуть инструменты. Тогда можно поймать горный восходящий ток и лететь.
И это значит -- конец полета, срыв. И Земзеров будет говорить за спиной: не надо было посылать Чанцева!.
Ах, лучше подохнуть назло всем!
V.
Мысли. Мысли, медленные, как ледник.
Горы. Волны застывшего воздуха, жесточайший холод. И небо, небо пустынное без единого клочка влаги.
В небе --
в голубых далях --
-- летел бесшумный комар!
--------------------------------------------------------
Чанцев вскочил. Это мог увидеть только глаз пилота.
Чанцев спрыгнул, побежал, забыл про боль в желудке: ну, да! Помощь могла прийти только с неба.
-- Костер! Костер! -- вопил Чанцев.
Елтышев понял. Он быстро сгреб моторные тряпки, паклю, деревянный ящик из-под инструментов, обломок пропеллера, плеснул бензина; но костёр горел жарко, бездымно. Тогда Елтышев сунул в огонь свой промасленный чемоданчик и он действительно зачадил.
Аэроплан приблизился. Это был пассажирский юнкерс ⁵. Вот, он заметил их и твердо изменил курс.
Чанцев увидел в цейс, наклонившегося через борт, на вираже, пилота. Чанцев вдруг стал легким, что-то поднялось в нем вверх, к горлу, и застряло в горле комком сладкого удушья.
- Эц! Эц! - вылетел этот ком.
- Дверь пассажирской каюты открылась и чьи-то руки выбросили большой темно-серый тюк. Он упал далеко, у левого глухого угла террасы,
Юнкерс закружился, снижаясь.
Тогда Чанцев просигнализировал на немом языке, понятном всем капитанам и пилотам света.
-- Не садитесь -- юнкерсу места нет. -- Мы поднимемся сами. -- Сломан пропеллер, -- Спустите нам пропеллер -- Добрый день, Эц! -- Спасибо.--
Круги юнкерса стали шире. В нескольких метрах от Чанцева упал, брызнув льдинками, никелированный французский ключ с плотно сложенной запиской, зажатой в нем. Пилот юнкерса махнул рукой и повернул к северу.
Чанцeв поднял ключ. Эц писал, на этот раз по-немецки, о том, как он рад, что нашел их (”хорошо, что Вы любезно сообщили мне Ваш маршрут"), что все так благополучно и что пропеллер он доставит завтра, утром.
На другой стороне, не так ровно, была приписка: ”Обязательно информируйте, где будете на обратном пути. Я очень хочу переговорить с Вами (здесь несколько слов былo зачёркнуто, их нельзя было прочесть). Людвиг Эц”.
-- О чем? -- подумал Чанцев.
Впрочем, немец мог знать многое. Очень было тревожно. Придется скоро дать отчёт в порче маслопровода. Не сваливать же на Елтышева!
-- Нет, эту историю нельзя так оставить.
Но Чанцев был рад, что из противоречия не проговорился Елтышеву.
- Вот, -- сказал Чанцев. -- А ты говорил.
- Верно, верно -- перебил Елтышев. -- Зачем бы ему тогда выручать нас? Я не гордый. Сознаюсь. Ошибся и говорю, что ошибся.
Ну, основания были, конечно, -- снисходительно уступил Чанцев.
-- Что маслопровод кто-то продырявил и очень умно, чтобы потерю масла нельзя было заметить сразу, это дважды два! Так мы и доложим. Но пока не звони. Поговорим с Эцем.
-- Ладно. Знаю. Дипломатия. Ну, а как же!
Они смотрели на тающий в небе юнкерс. Он поднимался всё выше. Авиаторы молчали и улыбались.
-- Эх, -- сказал вдруг Чанцев, -- жаль, не сообразили cкинуть краюху хлеба.
Ёлтышев, набрав в легкие воздуха, выпрямился:
-- А штуковину выбросили!.
Он не договорил. Они помчались, ковыляя по льду.
Тюк был завернут в серое казенное одеяло, искусно перевязан шпагатом. Чанцев выхватил нож.
- Погоди! - закричал Елтышев, - отнесём сначала домой,
- Домой? Ну, хорошо!
Чанцев хохотал. Они принесли тюк к своему логову, В одеяло было завернуто другое одеяло. Потом еще и еще. Сверхъестественное для русского человека количество одеял. И, наконец, в самом центре одеяльного метеорита были -- хлеб, окорок, сахар и эти замечательные заграничные банки: кофе, сухое молоко, яйца, сладкий картофель!
И была еще картонка с напечатанной инструкцией, смысл которой сводился к тому, что после голодовки не следует есть все сразу.
-- Вредно для живота, -- сообразил Елтышев.
На этом основании Елтышев отобрал в свое заведывание все немецкие припасы. Он суетился, он начал понемногу командовать, как в тот раз, когда вдруг опустились красноармейские винтовки. Теперь он развернулся по-настоящему. Состряпал яичницу с ветчиной и кофе по-варшавски.
Они ели и жмурились. Приятно урчала паяльная лампа, приставленная к ведру с кофе. (Раньше паяльная лампа урчала в унисон с неприятным урчанием в желудке). И булки были цвета огня, творца жизни. Авиаторы наелись. Они снова становились людьми, теперь им хотелось не только жрать .
Чанцев посмотрел кругом жадно. Теперь проклятые горы казались прекрасными.
- Покурить бы!
- Стой.
Елтышев достал из-под сидения в самолете пачку папирос, завернутую в обрывок газеты с каким-то сумасшедшим заголовком.
-- Я нарочно припрятал для такого случая.
Они затянулись мягким дымом, который недавно глотали, как отраву, чтобы заглушить голод, а теперь сыто пробовали на вкус и оценивали.
- Хорошо!.
- Ну, а сейчас, Сергей Петрович, давай отвернем винт,-- значительно сказал Елтышев.
Они отвернули изломанный пропеллер, налили масла из запасного бачка, еще раз, вместе, любовно осмотрели самолет. Он снова стоял напряженный и сильный, и послушно ждал человеческого сигнала.
-- Поднимемся, -- уверенно и спокойно решил Чанцев.
На лопасти сломанного пропеллера он выцарапал слова и даты о невольном их плене. Они укрепили пропеллер в ращелине, на вершине самой высокой скалы, видной со всех румбов. Потом Чанцев ушел к радио-пеленгатору и долго, с редким подъемом, поработал над картой.
Так прошел этот день. Морозная мгла медленно потянулась к снегам и звездам. Авиаторы легли, постелив десяток одеял и у каждого осталось еще по пяти, чтобы накрыться. В каменном гроте под одеялами было противоестественно тепло.
- Ты ему не говори, -- сказал Елтышев, отвёртываясь в сон.
- Ты о чем?
- Ну, что я его за фашиста принял.
- А! Ладно.
Чанцев курил и улыбался. Спать, спать, раздевшись, сняв верхнее платье и сапоги! Старый еврей разбудил и сказал ему в вагоне (Чанцев заснул одетый):
-- Человек, который спит в обуви, испытывает одну шестидесятую часть смерти,-- это из Талмуда.
-- Точные черти! Ну, а если в сапогах и с голодным брюхом? Это, наверняка, шестьдесят процентов. Надо справиться.
Теперь, впереди была жизнь. Чанцев снова видел мир, лежавший у его ног. Завтра он поднимется над ним и кратчайшим путем, путем высоких ветров, выйдет к тёплому морю. Женщины лежат на пляже. На знойных коричневых склонах зреет виноград. Жизнь шагает все быстрее и дальше, и все громче триумфы авиаторов, превзошедшие триумфы цезарей.
Горы, ледяная клетка, всё это -- ничто, когда о нем думают другие, даже те, кого он никогда не видел и не знал.
Завтра, как сегодня, прилетит черный и серебряный юнкерс и сбросит большой мягкий тюк. Там они найдут новый пропеллер.
Докурив, Чанцев повернулся на бок, бездумно закрывая глаза в туманы, в блики, в сиянье.
И он заснул спокойно, как ребенок на отцовских руках, который спит и знает, что о нем заботится кто-то большой, могучий и ласковый.
Примечания
¹ фарман – самолет фирмы Фарман (Франция).
² ньюпор -- самолет фирмы Ньюпор (Франция); с 1912 г. строились в России.
³ горголь – здесь: моторное масло.
⁴ четверть -- 3,075 л.
⁵юнкерс -- самолет германской компании, основанной Хуго Юнкерсом.
Сибирские огни, 1927, № 4, с. З -18
VI. СОВЕТСКАЯ МАНГАЗЕЯ
(Глава из книги «Выход к морю», изд. «Федерация», Москва, 1931)
Тунгусы приходили к тем острогам и зимовьям в собольих шубах и часто даже лыжи их были подбиты соболями.
«Землицы, людишек и животишек, чтоб было прибыльно московскому царю»,— говаривали «промышленные люди» и перли в Сибирь.
Что прибыльно царю, то прибыльно и купцу. Многие из этих промышленников «облыжно» именовали себя «царскими людьми» и собирали ясак, который, конечно, шел не в царскую казну, а в их пользу. Ввиду этого в 1598 году послан был из Москвы на Пур и Таз дьяк с целовальниками и стражей, которому поручено было осмотреть страну и «объясачить инородцев». В 1600 г. в те места была выслана сотня казаков «с целью укрепления в самоедской земле русского влияния и постройки на реке Тазе острога»; но юраки, самое независимое из самоедских племен, разбили казаков. «Тридцать человек было убито, остальные бежали на оленях, оставив запасы, с одною душою да с телом. Однако, спрос на пушнину, в том числе и на заграничных рынках, гнал в Сибирь, в неведомые страны, населенные «сыроядцами», все новые ватаги. «Уже в следующем, 1601 году из Москвы на реку Таз были отправлены воеводами князь Масальский и Савлук Пушкин. Из Тобольска под начальство воевод отряжено было 100 человек стрельцов, казаков и пленной литвы, еще 70 человек, было дано из Березова. Мореходные кочи построили в Верхотурье. Отряд достиг реки Таза и в 200 верстах от его устья основал острог и город Мангазею»¹.
Торговые сношения между севером Европейской России и устьями западно-сибирских рек, впадающих в заливы Карского моря, возникли, как было сказано, задолго до основания Мангазеи. С основанием города, ставшего в конце удобнейшего пути в Сибирь, эти сношения достигли значительных размеров; но такой необычный успех, как часто бывает, и погубил город. Царские бояре заинтересовались, не только Мангазеей и соболями, но главным образом Северным морским путем, лежащим в стороне от их больших карманов. Поводом для вмешательства послужили настойчивые поиски «северо-восточного прохода» голландцами и англичанами, т.-е. поиски кратчайшего пути в Индию и в Китай, приведшие корабли иностранцев в Баренцево и Карское моря. «Начали допрашивать русских промышленных и торговых людей, зачем «немцы» ходят на Печору и в Карское море, и какие пути ведут из России в Сибирь». Тобольский воевода, князь Иван Куракин, писал в 1616 г. царю: «А, к воину, государь, Новкщенову в Мангазею мы, холопи твои, писали. про то б торговым и промышленным всяким людям заказал накрепко, чтоб немцам в Мангазею дорог не указывали ни на которые места. да не токмо им издити, иноб, государь, и русским людям море в Мангазею от Архангельского городу ездить не велеть же, чтоб на них смотря, немцы дорог не узнали и приехав бы воинские многие люди сибирским городам какие порухи не учинили».
Московское правительство издало указ воеводам о том, чтобы «промышленные люди с немцами не торговали, а ослушникам от нас быти в великой опале и смертной казни», но русским торговым людям было разрешено «ходить большим морем по-прежнему».
Однако, воевода Куракин, опираясь на слова указа — «следить, чтобы государеву делу было прибыльно», предписал, чтобы промышленных людей, пришедших из России в Мангазею, «назад большим морем не отпущать, а отпущать на Березово, через Камень». В отписке царю, вместо угрозы завоевания Сибири иностранцами, через Северный морской путь, воевода выдвинул более реальные соображения: «Только поедут большим морем и учнут торговать с немцами или с русскими людьми, утаясь на Угорском Шару. на Колгуеве, на Канином Носу, и твоей государевой казне в пошлинах потеря будет, а сыскать будет нечем, потому городов и приказных людей в тех местех нет. а только едут на сибирские и на русские городы, и твоей государевой пошлине прибыль будет вдвое, потому: ехати им доведетца по городам, и товары их по проезжим грамотам будут явны. и в том твоей государевой казне будет прибыль в перекупной пошлине». Боярин, разумеется, заботился не о государевой казне, а о своей собственной. Как бы то ни было, но уже в 1620 году торговым людям путь через Карское море и Мутную и Зеленую реки был из Москвы заказан, а ослушникам было обещано «за то их воровство и за измену быти кажненными злыми смертьми и домы их велим разорити до основания». Указано было «поморских городов торговым людям в Мангазею ходите» рекой Печорой, Усой и волоком через Урал в Собь, приток Оби. «А меж Мутныя и Зеленыя реки, для береженья проходу немецких и торговых людей, указали есмы поставити острожек и заставу служилых людей. и русских торговых и промышленных людей с моря пропущати не велели». В 1624 г. на волоке стоял «боярский сын Яков Шульгин и с ним служилых людей сорок человек. Морской торговле России с Сибирью был нанесен решительный удар»¹.
Мангазея захирела. Основателей и насельников ее обуяла та трепетная жажда бегства, которую на современном языке наверно назвали бы «ликвидаторством» или «шараханьем». Город терпел бедствия от пожаров и всяческих неурядиц. Через три года после закрытия Северного морского пути, Матвей Бектеяров доносил царю Михаилу: «.Месяца мая, в 17 день, волею божьей, половина города выгорела дотла, а из остальной половины ползут тараканы в поле, и видно быть и на той половине гневу божию, и долго ль, коротко ли и той половине горети, что и от старых людей примечено. А того дня не велено ль будет и остальную половину зажечь, выбрав пожитки, дабы не загорелся град не вовремя и не погорела-б у людишек худобишка, да и твоей, пресветлейшего государя, казне не было б убытку».
Город простоял еще лет сорок. К этому времени «менее, чем в столетие был забит почти весь соболь, который определял первые пути русской колонизации бассейна
р. Енисея» ². В 1672 году, в связи с экономическим упадком Мангазеи и с трудностями снабжения города хлебом, «правительство распорядилось, перенести административный центр Мангазейского уезда из Мангазеи на Тазу в Туруханское зимовье».
Это зимовье, куда раньше воеводы наезжали лишь для сбора ясака, выросло в новую Туруханскую Мангазею. В записках Харитона Лаптева, опубликованных впервые в половине XIX века ³, Туруханск еще называется «Мангазейском» и «Мангазейнском». «Город Мангазейск, — писал Лаптев, — состоит от реки Енисея на левой стороне по течению, в 15 верстах, над протокою, которая зовется Шар, близ устья реки Турухана. В городе Мангазейске одна церковь, с 70 домов жителей разных чинов Русских; довольствуются також привозным хлебом, а родятся огородные овощи: капуста и редька и репа, а более ничего. В ширине состоит 66° 08'».
Новая Мангазея превратилась в старый Туруханск. Жители промышляли пушниной, а больше водкой. Харитон Лаптев писал в своих замечаниях о реке Енисее:
«Ниже. состоят по реке и до самого моря зимовья, в которых русские живучи промышляют песцы и лисицы и зайцы, а питаются рыбою и привозным хлебом, меняя на рыбу. Скота кроме собак не имеют, на которых ездят зимою. У всех промышленников по реке Енисею, русских, не весьма довольно богатства их, в чем бы ни было. Обычаи имеют: великие охотники в карты играть, покупая дорогою ценою; також слабы очень к вину горячему, которое привозят. из города Мангазейска. И на ту ж рыбу вымененного хлеба, изверяя, что непромыслят, отдав Государево, проигрывают и пропивают тому, у кого бывает вино», т.-е. «мангазейским служилым и жителям» ³.
«Раззорение и обнищание промышленников, периодичность «урожаев» песца, ставшего, после уничтожения соболя, главным объектом промысла, трудность доставки продуктов, быстро привели к концентрации промысла в руках крупных промышленников. В начале XVIII века. около половины всех зимовьев правого берега Енисея (севернее Дудинки) фактически оказалось в руках Троицкого Туруханского монастыря» ². Монастырь был основан в 1670 г. «неким смекалистым монахом Тихоном». Вокруг монастыря выросло село «Монастырское». Выгодное географическое положение, в устьи Нижней Тунгуски, на ее правом берегу и на правом берегу Енисея, превратило монастырь в новый центр огромного края. Предприятия монастыря были раскинуты на тысячи верст. В подтверждение своего центрального значения и почетной преемственности монастырь пустил в ход «мощи святого, местного значения,— Василия Мангазейского». «Еще в 1920 г. — сообщает М. Сибиряков, — в часовне при монастыре можно было видеть лиственничный колодный гроб с крышкой и нарточку, в которых, якобы, монах Тихон вывез из Мангазеи «мощи».
Нынешний Туруханск — это прежнее село Монастырское. Повторяя историю Мангазеи, население Старого Туруханска — «Мангазейска», находившегося верстах в тридцати от устья Нижней Тунгуски, на реке Турухан, потерявшей свое былое значение пути из Таза в Енисей, переселилось в 1909 году в Монастырское. Сюда же был перенесен административный центр Туруханского края. И так же, как в семнадцатом веке Туруханское зимовье на Енисейском волоку было названо переселенцами Мангазеей, так село Монастырское в наши дни превратилось в Туруханск.
Фарватер поворачивает к Туруханску почти под прямым утлом, в глубокое устье Нижней Тунгуски. Вода Тунгуски холодна, черна и чиста, как вода колодца. Туруханск почти на границе полярного пояса. Чем ближе к полярной границе, тем больше полярностей. В расплывчатый хаос нескончаемых северных полутонов четко воткнуты мачты радиостанции. Под мачтами новые стандартные здания. Еще ниже — берег, каменная отмель и на ней берестяные чумы остяков, такие же, как сто лет назад. Дом туземца — сума переметная. Взял, собрал — путешествуй. Остяки, нищие из нищих, говорили мне о своей свободе гордо:
— Вольный человек!
Дом, и мир для остяков неразличимы; но выше, в Туруханске, жилищный кризис. «Центральные хозяйственники» не могут жить в чумах. Им нужны теплые русские избы, оставшиеся от монахов и мангазейцев. В силу того же наследства, экономика Нового Туруханска все еще покоится на легком золоте «мягкой рухляди». Только теперь, вместо соболя и песца, расчет идет на белку; но не на этом древнем промысле, исчисляемом в «беличьих единицах», вырастет советская Мангазея. Центр огромного края перекочует еще раз. Его первые котлованы и первые здания заложены не по велению левой ноги воеводы, монаха, купца и чиновника. Советская Мангазея растет на месте, указанном советскими исследователями.
------------
«Саннэ», «Рендаль», «Ингрид» шли прямыми полноводными плесами Енисея. Здесь не было ни островов, ни отмелей. Высокие каменистые берега лежали параллельно, как берега канала. Темный хвойный лес покрывал берега. Пихта, лиственница, ель. Над лесом, над голубой рекой, сверкало безоблачное небо, низкое теплое солнце, тихий северный актиничный день. Из-за поворота реки, в этом голубом и зеленом мире, взошли теплые, как свежий таежный мед, яркие, как янтарь, пламенные блики. Их становилось все больше. Они сияли. Это был новый тес новых зданий нового порта — «Игарки».
Справа от нас, на левом наволочном берегу Енисея, возникает микроскопическая рыбачья деревушка. Это и есть, собственно, Игарка. Избы ее древни и серы, как избы всех деревушек и станков енисейских низовий. Здесь давно никто не селился, никто не строился. Название «Игарка» пошло от самоедского зимовья, стоявшего здесь раньше: жил да был, мол, самоед Егорка, а по местному произношению Игорка, так и произошла Игарка. Харитон Лаптев, как было сказано, упоминает в своих записках «Игоркино зимовье».
В Европе, где-нибудь на Волге, при подобных обстоятельствах, появилась бы Георгиевка. А на Енисее — Игарка.
Напротив деревни Игарки лежит остров, называемый в атласе Вилькицкого «Самоедским»; никаких самоедов в этих широтах нет. Здесь живут остяки. Местные жители, позабывшие про самоеда Егорку, называют остров «Игарским». Узкий пролив, отделяющий остров от правого берега Енисея, называется также не «Самоедской», а «Игарской протокой». Эта протока и является тем магнитом, что в одно лето притянул на свои таежные берега первые здания и первые машины будущего большого порта. Мы его называли: «П о р т И г а р».
От деревни Игарки отряд «Карской» повернул в устье Игарской протоки. «Саннэ», сбавив ход, медленно пересек трехкилометровую ширину Енисея. Красные и белые бакены отмечали фарватер. У входа в Игарку из воды торчат камни, берег материка также каменный, высокий.
Камни у входа в Игарскую протоку отпугивали проходящие по Енисею пароходы, заставляли их держаться подальше. Ее открыл товарищ Очередько, начальник Енисейской лоцдистанции. Он зашел туда на своем пароходике «Тобол», бросил несколько раз лот и сразу понял, что нашел «восьмое чудо в свете». На следующий год Игарская протока была заснята и исследована, по поручению Комсеверпути, Л. И. Смирновым. В истории Северного морского пути наступила новая эра.
Игарская протока идет ровной дугой вокруг полумесяца Игарского острова. Длина протоки около 20 километров, ширина 1/2 километра. Высокие берега защищают ее от ветров всех румбов. Любой шторм, опасный для плотов и для речного флота на широких и прямых плесах Енисея, не разводит здесь волны. Глубина протоки, в самую низкую воду, не меньше десяти морских сажен. Только у верхнего края она падает до 4 1/2 сажен. Таким образом, глубина Игарской протоки всюду превышает глубину на баре Енисея. Дно протоки илистое, профиль его подобен каналу. Морские гиганты могут подходить к самому берегу, как в какой-нибудь Ялте, к молу. Течение в протоке почти незаметно, не больше 1/2 узла — ровно столько, чтобы суда при перегрузке выстраивались по одной линии. Капитан Аренсен ходил в Амазонку, Миссисипи и другие великие реки мира, превосходящие Енисей; но нигде в мире он не видел такого естественного речного порта, как Игарская протока.
— Роrt is vеrу gооd * — сказал капитан Аренсен авторитетно. — Если бы только не было этого проклятого Карского моря!
— Во всяком случае, в этом году вам не удастся побывать в Красноярске, капитан.
Маяк-мигалка, поставленный на острове, у входа в протоку, остался позади.
Л.И. Смирнов, высадившийся здесь два года назад, рассказывал, что видел у подножия маяка множество следов медведей. Любопытные звери вытоптали траву вокруг мигалки, наблюдая за этим единственным, непостоянным и холодным огнем. Теперь в тайгу пришли люди. Звери ушли далеко, прислушиваясь к могучим гудкам и взрывам, принюхиваясь к чужим, страшным запахам, раздвигающим тайгу. Человек ставил свое жилье там, где жили звери.
Корабли шли навстречу медовому солнцу Игарки. У берегов канала, по обеим сторонам, стояли морские пароходы, окруженные плотами и баржами. Лебедки вытаскивали из воды блестящие слиппера и капбалки ⁴. Берег был покрыт штабелями
экспортных досок, здесь же лежали громадные заводские трубы и кучи ящиков с оборудованием, работала бревнотаска, пыхтел дизель. Большие новые баржи, с двухэтажными жилыми домами на палубах, стояли в ряд, как дебаркадеры на больших пристанях. К белому двухтрубному колесному пароходу мчались катера; Их моторы звонко хлопали в неподвижном воздухе. Маленький винтовой пароходик, похожий на игрушечную копию морского корабля, тащил плот. Я узнал старого знакомого. Это был «Север».
«Саннэ» дал два гудка. Капитан повернул рукоятку судового телеграфа. Винт остановился. Второй помощник капитана, он же боцман, замахнулся кувалдой, выбил клин. Якорь упал. Якорный канат с грохотом отмерил одиннадцать саженей и замолк.
— Причалили, — сказал боцман.
— На берег! — закричал я по-русски.
Это ведь был настоящий берег с сухой землей, зеленой травой, деревянными мостками и целой толпой людей.
Белый катер подошел к борту. Я вспомним таможенные процедуры в Новом порту; но здесь, слава Енисею, они закончились гораздо скорее.
Стюарт накрыл стол в кают-компании. «Кэптен» публично вынул бутылку рому, а может-быть не рому, во всяком случае содержимое бутылки потребовало рюмок. Присутствующие выпили дипломатично и деликатно. За разговором о разных вещах старший таможник бегло прочитал, как исповедник перечень грехов, свои стандартные вопросы. Капитан Аренсен отвечал: нет, нет, нет. В заключение из матросского кубрика были извлечены несколько
-------------------------------------------------
* Порт очень хорош.
банок табаку и сломанный фотоаппарат. Международная вежливость была соблюдена. Появился стюарт и, поманив таможников пальцем, повел их в мою каюту. Я не понял обычая и пошел вслед за ними. Оказалось, что в моей каюте помещался специальный шкаф, со специальными дырочками для пломбы.
— Во всем мире одно и то же, — сказал таможник.
Он положил на дно шкафа запрещенные банки с табаком и пустил в ход свои щипцы.
У Нансена рассказывается о таможнике, присланном из Иркутска в устье Енисея для «досмотра» парохода «Коррект», на котором находился Нансен. Это казалось анекдотом; но теперь мы посылаем в устья Оби и Енисея четырех таможников для досмотра товаров, наименование и количество которых заранее известно и которые целиком поступают в адрес наших государственных органов и предприятий.
-- Едва ли это лучше. Как вы находите?
Енисейский таможник усмехнулся.
— Я слышал, — сказал он, — что начальник Главного таможенного управления в Москве тоже предлагал передать наши функции другим учреждениям. Экономия на аппарате. Однако, кто-то не согласился там, в наркоматах. Работаем по-прежнему.
Большая «Карская» баржа пришвартовалась к «Рендалю». Застучала паровая
лебедка. Из трюмов поползли вверх ящики с машинами. Остяк в пиджаке и фуражке плыл мимо на своей лодочке — «ветке». Мой сосед махнул ему коробкой папирос. Остяк причалил к барже. Через минуту мы встали на берег. Он выглядел сухим и теплым, как под Красноярском.
В первый раз на севере я не надел высоких сапог, выходя на берег. И я был свирепо наказан за такое пренебрежение: близ ручейка, пересекавшего дорогу, я провалился в жидкую грязь выше колен.
Здесь мне снова вспоминается московский лектор, рассказывавший об Игарке в героических тонах. Лектор размахивал тростью, служившей, ему указкой, и говорил, придавая голосу значительность:
— Там такая ужасная вечная мерзлота, что вот эта палка, если навалиться на нее всей тяжестью, уходила в землю не больше, чем на один сантиметр !
На этот раз я хотел бы быть столь же легковесным.
О вечной мерзлоте и о борьбе с вечной мерзлотой мне рассказал главный инженер строительства, С.А. Рыбин.
Идея Игарского порта проста, как первые правила арифметики. Она определяется цифрами:
Сопочная Карга — Игарка . . . . . . . . . . . 725 км
Игарка — Енисейск . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 493 »
Путь по Енисею, от основных сырьевых баз до Игарки, в два раза короче пути от Омска до Нового порта или от Новосибирска до Нового порта. В ближайшем будущем весь лес по Енисею пойдет сплавом. Плоты будут наполнять каждую осень Игарскую, протоку, конвейер будет подхватывать бревна и выбрасывать их в никогда не замерзающий бассейн большого лесопильного завода. Двадцать четыре рамы будут весь год пилить бревна, заготовленные на Бирюсе, Чуне, Ангаре, Кане, Касе в лучших лесных массивах, чтобы приготовить к навигации чистые янтарные доски для экспорта. Это начало.
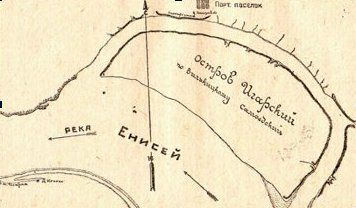
Инженер жил в маленькой каюте странной баржи, именуемой «брандвахтой». Здесь же помещалась радиостанция. Здания на берегу не были готовы. Брандвахта была набита людьми. Каюта инженера была набита утварью, бумагами, книгами, чертежами. На стене висел самоедский «сокуй» — зимняя верхняя одежда из оленьих шкур.
— Холодно будет зимой,—поежился инженер.
За окном блестело солнце, блестела голубая протока, блестели плоты. Рабочие, в сапогах до бедер, подводили бревна к бревнотаске. Женщины в легких разноцветных платьях чистили рыбу, стирали белье. Мы вышли, не надев верхнего платья.
Строительство завода и порта ограничивалось вогнутой стеной леса, отступившего от берега на несколько километров. Нелегко было представить, что на всем этом наклонном пространстве, от лесной стены до берега протоки, где сейчас гремела деятельная жизнь, всего два месяца назад стояла дикая медвежья тайга. Временные бараки, новые бревенчатые дома, рельсы, деревянные мостовые, склады вырастали прочно, как будто они всегда стояли здесь.
Жизнь в бараках текла «при открытых дверях», женщины мыли, сушили, варили на открытом воздухе. Рабочие шли возле бараков без улиц и троп. Все это очень напоминало жизнь Мурманска, каким я видел его два года назад.
Откатчицы катились вниз по склону на вагонетках, наполненных рыжей землей. Откатчицы были молоды, их лица были еще теплее, чем рыжая земля. Они пели. Дуга рельс привела нас к лесозаводу № 1.
Здание было почти закончено. В машинном отделении стоял красный локомобиль.
— Вот наш первый заводик. Мы кончим его к октябрю. В этом году здесь будут работать две рамы, а когда будет готов большой завод, мы переведем его на фанеру и ящики.
По плану Комсеверпути мощный четырехрамный завод должен был быть закончен к
1 января 1930 г.
— Значит, план не будет выполнен?
Инженер Рыбин помедлил.
— Решайте сами, можно ли было выполнить такой план. Здесь была тайга.
Он вынул папку документов. Я прочитал постановление комиссии ВСНХ, — нечто вроде: план принять, но ввиду «отдаленности баз», «вечной, мерзлоты» и т. п. считать план неосуществимым.
Мы подошли к котлованам большого завода. На дне глубоких ям лежали круглые камни, валуны. Эти головоподобные камни и спутали расчеты людских голов.
Во время исследований почвы, в предыдущем году, бур каждый раз упирался в камень. Исследователи решили: скала. Выходы основных твердых пород близ устья протоки подтверждали вывод. Первоначальный проект завода предполагал постройку на скале; но вместо скалы строители нашли слой валуна. Камни плавали в тающей синей глине, как клецки в супе. Под слоем валуна лежал песок.
— Строительство на вечной мерзлоте — редкая специальность,— говорил инженер Рыбин.— Вечная мерзлота прочна, но требует особого подхода. Нам нужно построить, котельное отделение. Теплое здание. Если не принять мер, мерзлота растает, прочный грунт превратится в кисель. Пришлось запрашивать специалистов в Москве. Теперь, вопреки писанию, вместо того чтобы строить на скале, строим на песке. Это дела не меняет. В Игарке можно строить не хуже, чем в Новосибирске; но мы задержались.
Инженер Рыбин говорил о стройке, о препятствиях, о борьбе. Он говорил спокойно и точно. К инженеру подходили техники, плотники, печники. Мы задержались: надо было остановиться, поговорить с каждым о всевозможных мелочах, из суммы которых вырастают города. Инженер Рыбин настаивал на моховых прокладках. Мох покрывает север, как ватное одеяло. Его сдирали с таежных пригорков и прокладывали им полы, сваи, крыши. Рабочий поселок насчитывал несколько десятков домов. Вдоль улиц, вымощенных бревнами, стояли яркие желтые столбы с нитью электрического кабеля. Бревенчатая мостовая шла к берегу, между складами, кооперативной лавкой, конторой. Мимо нас проехал водовоз с бочкой, наполненной водой. Бревенчатая мостовая поднималась от поселка до тайги. Человек диктовал свою волю. Гордость подняла мою голову. но вот, рядом, в человеческой воле, я вижу — п р о р ы в.
Речной пароход «Амур» — штаб экспедиции. Пароход походит на канцелярию, на клуб, на столовую, на все, что угодно, кроме парохода. Канцелярская скверность давит на работу. Грузчики в брезентовых костюмах сидят вдоль борта и ругаются. Они больше часа ждут моторную лодку, чтобы попасть на «Рендаля», для погрузки. «Штаб» объяснял, что вот, мол, ожидали получить и т. д. Однако, нужно было затратить всего лишь 200-300 рублей, чтобы закупить по пути, в любой деревне на Енисее, простые рыбачьи лодки. По тихой и узкой Игарке в гребной лодке можнр было бы добраться до «Рендаля» в несколько минут. Я ждал вместе с грузчиками. В «штабе» шел разговор о том, что пароход «Ингрид» придется отправить порожняком в Архангельск. Экспорт, за которым мы пришли в Игарку, был в пути, и никто не знал, где, он и когда будет на месте. Все это, по справедливому признанию одного из участников экспедиции, походило на пожар, в одном из популярных дореволюционных учреждений и кончилось процессом о вредительстве.
— Что вы скажете?.
Материал был противоречив, требовал обработки и не сразу укладывался в слова.
Тысяча человек рабочих выкорчевали тайгу, строили в тайге завод. Грузчики работали и днем и ночью, при электрическом свете, наполняя пустые трюмы иностранных «купцов». Миллионы золотых рублей прибавлялись в фонд пятилетки. И в то же время не хватало самой простой организованности. Не хватало непримиримой борьбы с глупостью, не хватало пролетарской чуткости, чтобы вовремя отличить союзника от классового врага.Еще через час мы подплыли, наконец, к штормтрапу «Рендаля».
Мой спутник сказал:
— Чухновский вылетел с Диксона. Обязательно будет здесь.
Тогда, поднимаясь, я увидел: коричневая бестия ловко мчалась вниз по железной тетиве. Перуанец шлепнулся в лодку. Может быть, это был потомок тех самых тараканов, которые уползли из Мангазеи, почуяв ее гибель? Во всяком случае, насекомые не были довольны норвежской кухней и недавней вентиляцией ветрами Карского моря. Их привлекал хлебный запах берега. На берегу расцветал человеческий город, сытный и теплый. Перуанские пророки возвращались в Советскую Мангазею.
------------------
Самолет «Комсеверпуть» прилетел в Игарку 20 сентября. Летающая лодка «Дорнье-валь» всплыла из-за темного хребта тайги. Мощный рев двух шестисотсильных моторов подавил на минуту детский лепет моторных катеров и веселые выстрелы падающих досок. Грузчики бросили работу. Дорнье-валь, выбрав свободную площадку на голубой зеркальной протоке, хищно умолк и, прицелившись, нырнул вниз.
Я и т. Шевелев скатились по трапу с «Рендаля» в шлюпку. Тов. Шевелев прилетел на этом самом самолете из Архангельска в Югорский Шар. Через несколько минут мы были под металлическим крылом аэроплана. Старые знакомые закричали приветствия. Механик Шелаган, как все механики всех самолетов, ревниво следил, стоя на коротком нижнем крыле, чтобы новички ступали на ребра, а не на тонкую обшивку несущей поверхности. Команда самолета — пятеро: Чухновский, Страубе (пилот), Алексеев (летчик-наблюдатель), Шелаган и его помощник. Они были одеты в синюю форму моряков. На голове у них были меховые шапки, из-под воротников торчали края свитеров. Половину т. Чухновского закрывали меховые сапоги. Мы были за полярным кругом, в полярном порту,— мы ярко ощущали: вот, люди прилетели на юг. Значит Игарка это «юг». Б. Г. Чухновский протянул руку. Я улыбнулся: в памяти, как рябь на реке, побежали бузовые строчки вузовского поэта:
Слово получает знаменитый летчик.
— Этот? Неужели! Маленький какой.
У полярного исследователя и смелого летчика были тонкие нежные черты лица, черные глаза, черные волосы, усики, как у героя экрана. Товарищ Чухновский казался болезненным и тихим. но ведь часто именно такие люди сильнее сильнейших. Здоровяки «ни с того, ни с сего» пропадают от сквозняка, а люди, приученные болезнью к постоянной выдержке, к чуткой слежке за своим организмом,
-- преодолевают пустыни. Тов. Чухновский встал. Оленьи сапоги тоже встали, вытянулись. Они доходили ему до самой ватерлинии. Он плавал в сапогах, как самолет на причале. Тов. Чухновский закричал. Тогда мы сразу оглянулись и закричали: на самолет перли все плавучие средства передвижения порта. Огромный катер «Игарка», набитый населением заводской «брандвахты», пытался причалить к правому крылу. К счастью, пришел другой катер — с милиционером и прочим начальством. Милиционер остался в самолете, а летчики перешли в катер. Тогда все лодки разъехались, работы возобновились.
Мы обедали на «Амуре». Это был обыкновенный русский обед, если не считать красновато-желтой муксуньей икры, которую черпали из таза деревянными ложками; но вечером, за норвежским «лап-скаузом», тов. Шевелев блаженно вспоминал обеденную часть дневных происшествий.
— У нас были щи с хлебом. С целой Караваевой хлеба! — Он изобразил руками большой объем. — Всех обывателей, жалующихся на паек реконструктивного периода, надо ссылать в Норвегию!.
Команда самолета «Комсеверпуть» двинулась на строительство завода. За авиаторами, как всегда в таких случаях, пошли десятки людей. Над северным строительством парила тишина и медные, как начищенный самовар, солнечные лучи. Их желтый отлив шёл от досок и бревен. Воздух был свеж и чист; но день был почти жаркий, как мартовский день в Крыму. Лица авиаторов краснели. Тов. Чухновский постепенно раздевался. Он снял свою шапку, синий китель и, наконец, свитер, пока не остался в белой рубашке. Так он и ходил в нижнем белье и в меховых сапогах до пояса.
Мы стояли над котлованами завода, у колыбели будущего города. Впоследствии пятилетка Комсеверпути выразила каши обширные мысли в сжатых цифрах.
Через 2-3 года на берегу Игарской протоки вырастут несколько заводов легкой промышленности. Эти заводы дадут в год —
560 тысяч кубометров пиломатериалов.
25 » » фанеры.
25 » » фибровых досок.
25 » тонн целлюлозы.
Они же дадут десятки тысяч ящиков и десятки тысяч бочек для рыбных консервов, рыбы и графита.
Залежи курейского графита огромны. По качеству курейский графит считается одним из лучших в мире. В настоящее время графит разрабатывается близ устья реки Курейки, недалеко от Игарского порта. Курейский графит полностью покрывает потребность, промышленности СССР. В 1926 поду в устье Курейки приходил морской пароход «Вага», взявший графит для экспорта. Этот опыт не был удачен в коммерческом отношении, так как продукт не отвечал требованиям иностранного рынка. Поэтому, вместе с лесозаводами, здесь возникнет обогатительная графитная фабрика.
Четыре тысячи рабочих будут заняты в этой промышленности. К 1932-1933 гг. население города достигнет 20-25 тысяч. Молочно-овощные совхозы раскинутся на жирной северной земле, освобожденной от вековой шкуры тайги и мха…
По берегу Игарского острова, раздвигая тальник, перло стадо рогатого скота. Животные отъелись на сочном подножном корму. Они шагали с присущей им важностью. Хвостовые опахала их висели неподвижно. Проказа северной тайги — гнус пропадает с первыми ночными заморозками. В воздухе не было ни одного комара, ни одной мошки.
— Бархатный сезон в Игарке, — улыбнулся инженер.
Строители завода и порта, грузчики и матросы «Карской» были обеспечены свежим мясом.
Что касается «капусты и редьки и репы», то остается всего лишь воспользоваться опытом прежних насельников края. Овощи дают в этих широтах хорошие урожаи.
Строительство первого совхоза начнется в 1930 г.
К концу пятилетки в Игарскую протоку придут 150-200 морских пароходов. Одновременно со строительством заводов на берегу развернется большое строительство механизированного порта.
Жаркое солнце двигалось к зениту своего воображаемого круга.
— Жить можно, — сказал бородатый чалдон.
— Я бы остался здесь! — вздохнул молодой моторист.
Его глаза блеснули.
— А вы откуда?
— Из Иваново-Вознесенска.
Да. Пролетарская революция должна позвать миллионы из насиженных и скучных своих мест. Иных позвать, иных взять за шиворот. Люди бедной русской равнины шли в Сибирь сначала в поисках соболя, потом в поисках земли — «корчевать дебрь плодовитую на пашню». Теперь должна наступить эра новой промышленной колонизации.
— Зовите сюда побольше ваших, иваново-вознесенских!
Инженер покосился на карту Карского моря.
— А лед, лед, лед. Он менее страшен, чем океан для Колумба! Скоро мы будем ходить в нем, над ним и под ним, как по ленинградской Маркизовой луже.
— Нет, мы будем извлекать из него добавочные выгоды! Ведь ухитряются же норвежцы продавать свой лед в Англию и даже в Америку. Честное слово! Посмотрите Энциклопедию Брокгауза и Эфрона: «Лед». А что вы думаете об э н е р г и и з а м е р- з а н и я?
Энтузиасты зашли очень далеко. Северная пятилетка была оазисом с ручейком в знойной пустыне нашей жажды. Я вошел в тайгу. Бревенчатая мостовая кончилась, но улица шла дальше. Это ссыльные кулаки и уголовники селились на новых местах, в поисках новой трудовой жизни.
Воздух в лесу был неподвижен. Странно было увидеть тонкие лопухи льда, оставшиеся от утреннего морозца. Есть хорошее ощущение от этого неподвижного свежего воздуха осени, одно из лучших в мире; но тайга есть тайга. Болота. Мхи. Рабочий-комсомолец заблудился здесь или его задрал медведь. Пароходы свистели всю ночь. Потерявшийся не вернулся.
--------------
Я вернулся вечером. Тов. Чухновский делал доклад рабочим Игарского строительства. Тов. Чухновский говорил так же, как в десятке городов СССР, об авиации в Арктике. Он говорил о своих полетах на Новую Землю, о спасении итальянцев, о Гусиной Земле, о последнем полете от Севастополя до Игарки.
После доклада тов. Чухновский подошел ко мне. Он был взволнован.
— Вы говорите, что ледовую разведку надо обслуживать специальными судами, а не самолетами.
Каждая мысль в процессе борьбы и строительства воспринималась односторонне: за или против. Накануне я говорил инженеру Рыбину о туманах и бурях Карского моря. Я говорил, что вместе с самолетами для ледовой разведки надо использовать зверобойные суда, зимующие к востоку от Новой Земли.
— Самолет в десять часов сделает столько же, сколько ледокол в десять дней, — возразил авиатор.
Мы прочитали донесения тов. Чухновского, переданные по радио о воздуха на ледокол «Красин». В них отражалась победа самолета. Громадная скорость и видимость давали возможность в несколько часов набросать карту льдов и даже течений, отчетливо заметных во льдах; но каждый раз, когда я видел самолет, я не мог отделаться от врезавшихся в память туманных кадров: трехсаженные волны с дикими, бешеными гребнями, развеваемыми бурей.
-- Помните, вам говорил пьяница Лундборг: «В Арктике могут летать сумасшедшие или русские».
— Ну, это он сказал после того, как перевернулся на льдине.
Тов. Чухновский заговорил о своем самолете: он вполне надежен, он может лететь на одном моторе, если другой выбывает из строя.
— Почему же на этот раз у вас была вынужденная посадка?
— Видите ли, у нас не было приспособления, чтобы вылить бензин.
Оказывается, чтобы вылить бензин из такого кита, надо потратить целый день.
Самолет «Комсеверпуть» был явно перегружен перед отлетом на Диксон. Когда передний мотор остановился, самолет принужден был снизиться.
Так мы спорили на палубе «Амура» в Игарском порту; но мы расстались друзьями. Ведь мы оба за то, чтобы к концу пятилетки первый морской караван пришел в П о р т-И г а р 20-25 июля, а последний ушел в Европу 20-25 октября.
Канцелярский «Амур» был переполнен. Летчиков негде было поместить на ночлег. Я попросил капитана Аренсена устроить троих авиаторов на «Рендале».
— Хорошо, — сказал норвежец. — А нет ли у них вшей?
— Вшей?!
— Ну, да: насекомых. Кто будет спать в кают-компании?
— Чухновский, — соврал я.
— А, Чухновский. Не is all right.
---------------
Утро было пасмурное, единственное пасмурное утро в этом солнечном сентябре; но авиатор всегда может сделать погоду лучше: тов. Чухновский обещал поднять меня над Игаркой, перед отлетом в Красноярск.
Пасмурные облака плыли с севера, высоко над Енисеем, Они не мешали полету.
Моторный катер подвёл летающую лодку к плотам, наполнявшим своими бревнами брюхо «Рендаля». Круглая дыра в самом носу лодки — место пулеметчика — предназначена для меня. Вместо обстрела, задание — сфотографировать Игарскую протоку сверху. Я сажусь на маленький деревянный ящик, заменяющий летчику-наблюдателю, тов. Алексееву, авиаторское кресло. В дыре, как в мусорной бочке, свалены — радио, якорь-кошка, трос, крышка от дыры. Все это действует, все необходимо в полете, как сама жизнь. Я вижу.
Самолет идет на посадку. Пустынное море. Ветер взметает гребни волн. Единственная связь с ледоколом, а может быть и единственное спасение — радио, вернейший победитель северных морей. Радист «Красина» бегом спустился вниз. В его руке мелькали, обрывки желтой бумаги. Радист сказал: «Из последней передачи SР (позывные самолета) поняли, что он дал: находимся вдоль восточной кромки. норд-вест. зажимает лед». Потом связь оборвалась.
Гребень волны залил круглую дыру, вымочил радиоаппараты. Надо было разобрать всю эту мелочь, сидя на ящичке от гвоздей, качаясь на морской зыби. Высушить. Собрать.
Я оглянулся на тов. Алексеева. Он проделал это месяц тому назад. Связь была восстановлена.
Летчик-наблюдатель стоит на крыле, позади пилотов. Его круглое лицо розового блондина спокойно, как луна в шлеме авиатора. Он выше всех и тяжелее всех на самолете. Тов. Алексеев, так сказать, противоположен Чухновскому. Из этих сходящихся крайностей спаялась железная цепь удачи, которая редко бывает счастливой случайностью на севере.
Катер выходит из протоки в Енисей. Борт-механик пускает в ход стрекочущий моторчик, который быстро заводит большие моторы. Голос моторов низок и ленив. Скупые порции огня едва поддерживают их львиное дыхание; но и от этой сонной силы дорнье-валь стремится вперед, обгоняя катер. Пеньковый буксир сразу ослаб. Я сбросил его с зацепки-«утки». Мы пересекли Енисей и самолет повернулся против ветра.
Острая зыбь захлопала в ладоши под моими ногами.
— Шапку завяжите, шапку! — десятый раз предупреждает тов. Чухновский.
Я завязал уши моей финки так, что мне не хватает воздуха. Тов. Чухновский слегка нагибается вправо, к рычагу газа. Ветер бросается на меня, как неистовый боксер. Рев. Ветер заглушает гром взрывов. Моя шапка, несмотря на все приспособления, поднялась кверху. Я ее не ощущаю. Я ощущаю ветер, летящий со скоростью трех километров в минуту мимо моей головы. Он тянет меня кверху. И вместе со мной медленно приподнимается самолет.
Реже становятся удары волн. Через секунду только по легкому крену узнаешь, что начался полет. |
Ветер. Раньше я летал над Сибирью в закрытой кабине. Я никогда не испытывал такого урагана. Я не знаю, что с ним делать. Он открыл ещё рот, как зубной врач своей жертве. Я сжал челюсти, точно откусил резиновый палец.
Мир впереди мутен. Человеческий глаз не выносит такой скорости. Я поднял камеру и выдвинул мех. Мягкая рука ветра спокойно задвинула объектив обратно. Хорошо! Я буду снимать вбок. Ветер мгновенно сдирает черную бумагу с адаптора и он возникает перед моим носом светлым, жестяным, голым. Я нажимаю рычажок затвора. Ветер нажимает кнопку адаптора, фильмпак вываливается и падает между лап кошки. Пленка засвечена. Тогда я поворачиваюсь к ветру спиной.
Ровный горизонт раздвинулся на десятки километров. В темной рыже-зеленой тайге блестит серебряный повод Енисея. Много озер. Внизу ровный канал Игарской протоки. С 400 метров он виден весь — природное инженерное сооружение, чудесный парадокс, еще неразгаданный.
Я крепко сжимаю камеру и снимаю назад и вниз. Так мне удается сделать несколько сохранившихся снимков, украсивших очерки моих московских друзей.
Через два дня самолет «Комсеверпуть» прилетел в Красноярск.
— Самое главное! — восторгался Б. Г. Чухновский. — Из Красноярска такой самолет никак не увезти. Никто не отберет.
Полярный авиатор отвоевал самолет для Карского моря не без борьбы. В приключении участвовали разные люди, от красноармейца до командующего армией и от репортера до Максима Горького. Об этой странной закулисной стороне Карской кампании можно было бы написать фантастический рассказ. Пока же остается пожать руку авиатору.
-----------------
В порту торопились. Три морских парохода ушли, взяв полный груз леса. В Игарской протоке остались четыре норвежских парохода.
Выход судов из Игарки откладывается до 27, в крайнем случае до 28. Дальнейшее промедление считаю рискованным.
Евгенов.
Это была не первая радиограмма. Люди все еще жили ледяным страхом времен Баренца. Над Игарским островом трепетали северные сияния. Их свет терялся в свете прожекторов, освещавших ночные работы. Палуба «Рендаля» наполнилась сибирскими бревнами, восхищавшими норвежцев. Хвойный запах начисто смахнул гнусный запах гуано. «Саннэ» взял слиппера. «Ингрид» и «Сидфольд» грузили пиломатериалы. Благоприятные метеорологические условия позволили подтянуть запоздавший экспорт. «Ингрид» не пошел в Архангельск. Однако, суда могли бы взять больше груза. Выход назначили 26-го; но в этот же день, рано утром, в протоку вошел пропавший лихтер с красноярскими экспортными досками.
Тогда комячейка строительства и «Карской» объявила субботник. Лихтер был выгружен в одни сутки.
Мы вышли из Игарской протоки в солнечный теплый день 27 сентября. Никогда еще морские суда не возвращались так поздно из Енисея. «Ульмус» и «Вага», о которых рассказывал капитан Чертков, вышли из Усть-порта 28 сентября утром. Мы прошли Усть-порт 28-го вечером. В противоположность 1926 году, на берегах нигде не было снега. Только у Яковлевой косы были видны незначительные забереги льда. 29-го, в дельте Енисея, подул норд-ост; но это не был леденящий ветер Арктики. Температура воздуха была выше нуля. Днем падали редкие снежинки, ночью ветер потеплел и утих.
— Ночь очень темная, — сказал вахтенный, испытывая потребность услышать человеческий голос.
— Да. Через два месяца здесь совсем не будет солнца.
— Не будет.
— Взгляните на северное сияние.
— Очень красиво.
— Какова наша скорость?
— Около 9 узлов.
«Саннэ» дал сигнал. В последний раз мы бросили якорь близ бара Енисея. Берега были неразличимы.
«Теплый норд-ост! Черт знает что!» — записал я в своем дневнике.
Тридцатого сентября, на рассвете, корабли вышли в открытое море.
----------------
Примечания
¹ Проф. Б. Житков.
² Н. К. Ауэрбах. Заселение и развитие промыслов в низовьях р. Енисея.
³ Записки гидрографического департамента Морского министерства, ч. IX.
⁴ слиппера, капбалки – виды пиломатериалов.

Фото со спутника: отмечены развалины Мангазеи на реке Таз и г. Игарка на Енисее.

Фото со спутника: Енисейская протока и г. Игарка.

Команда самолета «Комсеверпуть»; справа – Б.Г.Чухновский.
(«Выход к морю»)
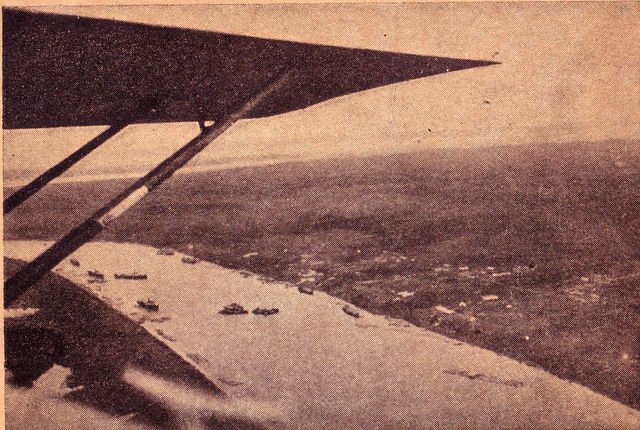
Игарка. Фото В.Итина с борта самолета «Комсеверпуть» («Выход к морю»).
СТРАНА БУДУЩЕГО
Глава из романа «Чистый ветер»
2.
Ветер шел с матерой земли. Снег растаял, и тундра позеленела. Самоедские племена двинулись к северу, за стадами оленей. Стада уходили к Полярному морю. Их гнал таежный гнус. Рядом с нартой, на которой стоял Энга, бежали всего тридцать оленей. Полозья скользили по мокрым мхам, как по снегу. Энга ушел вперед. Лед пролива у северного мыса набух и в иных местах покрылся водой. Олени остановились. Передовой несколько раз громко втянул воздух. Энга ткнул его «хореем» с наконечником из мамонтовой кости. Олени побежали на остров. Энга поставил чум, принес плавнику. И пока горел костер, вокруг распустились маки и ромашки. Энга сорвал цветок и подумал о девушке.
Старый Тарабуга гордился своей дочерью. Он просил за нее десять быков, десять важенок, десять песцов рослых, два голубых, трех волков, трех росомах, главное же – русское ружье, у которого сразу два ствола, и русской водки. Тут Тарабуга каждый раз путал: то говорил бутылку, то четыре бутылки. Тарабуга помнил время, когда жил белый царь, и русские сами привозили водку. Энга этого времени не помнил. Он любил крепкий кирпичный чай; но Тарабуга качал головой и говорил, что водка лучше. В прошлом году Тарабуга сам поехал на великую реку. Новый русский купец дал ему много белых сушек и белой муки, но водки не дал, хотя сам был пьян.
-- Ты, -- говорил он, -- юрак-дурак, напьешься, а потом большой красный начальник узнает, и будет мне плохо.
Тарабуга вернулся злой, говоря, что русские как были сволочами, так сволочами и остались: выжидают цену.
Поэтому Тарабуга и держался так за девку.
Незаходящее солнце плыло на севере по своему годовому кругу. Морской лед сверкал вершинами торосов. От света и от дыма у Энги заслезились глаза. Он согнулся, вошел в чум. Энга лег, спрятав ноги в сокуй 1, и стал думать о том времени, когда его баба будет ставить чум, готовить еду и варить чай. Думать об этом было приятно. Энга уснул.
Солнце стало заходить к северо-востоку и юго-западный ветер усилился. Пресная вода Обской губы ринулась в залив. Лед вдруг сдвинулся, спаянные между собой глыбы освободились и пошли, подгоняемые штормом, как смелые парусники, капитаны которых умеют держать парус.
К чуму Энги подбежал старый юрак 2 и закричал. Энга вышел. Тарабуга ругался, повернувшись к проливу. Энга оглянулся. У оленей стояла Оболе. Голова ее была не покрыта, и черные волосы, с ровным пробором посредине, сверкали на солнце, как стволы русского ружья. Тугие косы спускались ниже чресел и красные ленты были вплетены в косы, словно редкие маки. Энга понял: Сюлей, Юва, Юга и старуха Пидима не успели перейти на остров. Энга улыбнулся: значит, старик поневоле станет промышлять с ним, ловить рыбу, а Оболе будет ставить чум и готовить еду для обоих…
Зеленоватые льдины шли в зеленовато-бурой воде. Вдали, вслед льдинам, уже набегали веселые злые волны. Ледяной припай оторвался, обнажив узкую полоску песка. Рыба плеснулась у берега. Остров окружало море.
Энга прошел близко от Оболе, выгружавшей длинные шесты и свертки оленьих шкур. Энга напевал, не глядя на девушку, мужскую песню…
Ниянодеку
Ниай денчеку…
Мужская песня всегда об одном и том же:
«Красавица,
Будь моей женою!
Я взял бы тебя,
Да беден».
3.
Тимофей Иванов смотрел на карту Азии.
Мы были друзьями… Почему? В нас было мало общего, если не считать наших разных, но одинаково невыгодных увлечений. В партийные дни Тимофей вскакивал, отрываясь от «Полевой геологии», вспомнив, что заседание ячейки давно кончилось. Ему выносили очередной выговор. Десять лет назад Тимофей был монтером в Кытлыме. Теперь он выглядел во всяком случае «солиднее» меня.
От простейшей мысли вспыхивает память. Мчатся огромные годы, идут войска, скачут кони. Снега, снега. Музыка полозьев и мохнатые ели на звездном зимнем небе… Потом голодные города и шестнадцатичасовой рабочий день… А люди! Как ни тяжело, а выпрямишься от бестолковой гордости. Ведь мы знаем партизан, которые завоевав уют колчаковских штабов, вставляли цыгарки в клистирные наконечники.
-- «Вот, буржуй, какой мундштук имел»… а потом становились наркоманами и полпредами.
От прежних лет в Тимофее остался все тот же голод необычайного роста. Он служил управделами в Хлебопродукте, и это его тяготило.
Стол скрипел под локтями Тимофея. Красный бумажный колпачок на электрической лампочке, купленный за гривенник у китайца, вздрагивал.
-- Если бы, -- сказал Тимофей тихо, «про себя», как принято говорить… -- Если бы нам сюда миллиардов пять!
Я улыбнулся. Палец Тимофея остался на черной веточке Енисея, у того места в «Щеках», где придавленная скалами пятиверстовая река стремится узким потоком. Здесь мы проектировали «Енисейстрой» на миллион лошадиных сил.
-- Оказывается,-- сказал я, -- один практичный янки, побывавший в Сибири, мечтает о том же.
Тимофей покраснел. Ему нельзя было говорить это мягкое распущенное «мечтать», со всеми производными. Тимофей хорошо работал, и «мечты» для него были только подобием трубки, освежающей мысль. Разозлившись, что его удалось смутить, Тимофей сказал, так же, как бухгалтер объявляет об удержании аванса:
-- Ну, рассказывай.
Я поднял остяцкий лук, чтобы взять майский номер нью-йоркского журнала «Азия». Тимофей долго самозабвенно пробовал упругость дерева, оклеенного тонкой корой, и стрелял в дверь. Наконечник стрелы был раздвоен, как у ножниц, только два острия не сходились под углом, а закруглялись параболой (приблизительно). Наконечник был отточен внутри. Остяк, продавший мне лук, объяснял: «Гусю шея попади и башка нет». Тимофей должен был отправиться, как он говорил, на север, чтобы выполнить поручение по геологической разведке, проектированной проф. Коровиным. Тимофей приходил ко мне за литературой о севере и затем, чтобы еще раз посмотреть мои северные фотографии.
- Что ты делал на севере? – сокрушался он. - Меня надо было взять!
Он шутил, конечно; но я оправдывался: я стоял, приходилось, за штурвалом, когда морская болезнь сваливала кого-нибудь из нашей речной команды, я сидел целыми днями на решетке юта, во время морской съемки и кричал в рупор отсчет лага 3, я ставил вехи на необитаемых островах… Все это я расписывал, как полагается, весьма «геройски» и прибавлял, что стихов я в море не писал, за исключением стихов в стенгазету, к которым капитан Петранди рисовал карикатуры. Комитет, таким образом, по - видимому, не потерпел убытка, выдавая мне паек, стоимостью в 20 рублей.
-- Дело в том, -- объяснил Тимофей, -- писателям надо писать о нашей будничной жизни, о нашей работе. Для этого нечего плавать за тысячи верст. Ты, ведь, сам против экзотики…
Действительно, мы только-что говорили в редакции о том, что с экзотикой в литературе надо бороться, «пока она, экзотика, не сдохнет»…
Тимофей повторял свое:
-- Рассказывай!
Я перевел несколько отрывков из статьи Морица Гайндуса, озаглавленной: «Великий дикий запад Азии». Мы посмеялись над заглавием: «Запад» для американцев олицетворение обширных и девственных пространств, хотя их собственный запад давно потерял последние остатки своей «девственности».
-- «Я бродил», -- писал Гайндус, -- «по учреждениям, библиотекам, лабораториям и музеям Новосибирска, беседуя с людьми, изучающими Сибирь и ее население. С большой горячностью они знакомили меня со всеми возможностями Сибири. Они завалили меня картами, диаграммами, бесконечными цифровыми таблицами. Я увидел, что Сибирь была одним из величайших хранилищ земных богатств. В одном лишь Дальнем Востоке больше золота, чем во всех банках Америки; но оно все еще лежит невычерпанным драгами. Сибирь располагает четвертой частью всей водной энергии мира, но она все еще остается не взнузданной. В Сибири покоятся огромные запасы топлива и железа, запасы, которые превратят ее когда-нибудь в один из наиболее шумных фабричных центров планеты, но эти богатства еще никогда, как следует, не разрабатывались. В сибирских реках и озерах плавают многочисленные суда, нагруженные уловом рыбы, годной для лучших заграничных рынков; но все это еще не организовано. В Сибири достаточно пахотной земли и пастбищ, чтобы превратить страну в величайшую мировую житницу, но земля ее вопиет о современных машинах и о рабочих руках, о миллионах рук. Если бы соединить сибирские реки, текущие на север, восток и запад, каналами, то возник бы водный путь до самого Тихого океана… Новые исследования говорят о все новых источниках энергии. Возможно, что Сибирь окажется великой страной нефти… Словом, в Сибири есть все, за исключением людей и капитала. Если бы только Америка вложила два или три биллиона добрых долларов и если бы еще десять или пятнадцать миллионов мужиков переселить в сибирские дебри, -- тайга и степи затрепетали бы от лихорадочных усилий, и Сибирь сама стала бы Америкой, русской Америкой!»…
Серые глаза Тимофея суживались и поблескивали. Мускулы, сжимавшие его челюсти, вздрагивали.
-- « Если бы … Америка»… Вкусно пахнет наша страна! Запах наших сокровищ идет вокруг «земшара». Надо отдать справедливость американскому журналисту: аппетит своей буржуазии он прикрывает прекрасными фиговыми листочками. «Если бы Америка!». Да, это очень просто. Только урожай «лихорадочных усилий» достался бы не нам… Темп, темп, темп! Как нам обойтись без Америки! Мы, ведь, нищие миллиардеры, мы богачи, потерявшие ключ от собственного дома и мерзнущие в дырявом шалаше таежного чёрта…
Главное было в голосе, в страсти, которая у меня так никогда и не проявлялась. Я улыбался и в то же время как будто рос…
Я занимался с Тимофеем английским языком и, для практики, мы перевели большую часть статьи. Записки иностранца о стране, в которой живешь, всегда интересны. Мориц Гайндус забавлял нас своим удивлением. Он писал о «необыкновенном» изобилии цветов в Сибири, о «необыкновенных» ромашках, превосходящих по величине все виденные им экземпляры в других частях света. Во всех вещах мира для янки на первом месте, разумеется, -- цена. Гайндус с удовлетворением подсчитал, что многочисленные букеты цветов, преподнесенные джентльменами дамам, едва ли обошлись дороже 25 центов. От цветов, при таком ходе мыслей, естественно было перейти к меду (опять восхищение, обратно пропорциональное цене стандартной единицы товара). Мы очень веселились, читая перечень дешевых цен, без труда убеждаясь, что плутоватые станционные торговки изрядно надували пассажиров международных вагонов. Американец будил в нас какую-то забавную гордость, обстоятельно сообщая, что «толпа в Сибири одета лучше, чем в Москве» и что
«нигде в СССР, кроме Киева, нельзя увидеть столько нарядных женщин, как в Иркутске». Тимофей вздрагивал, ругался и приплясывал, когда я переводил «отзыв» Морица Гайндуса о Новосибирске. Сообщив, что Новосибирск вовсе еще не город, раз в нем нет ни канализации, ни водопровода и «даже» не все улицы вымощены, американец сумел разглядеть в столице Сибири такие черты, каких он нигде больше не мог увидеть.
«Это исключительно интересный город, -- писал Гайндус , -- «мир будет слышать о нем все больше и больше. Новая столица Сибири станет не только административным центром Сибири, но и одним из главных центров всей азиатской торговли. Это действительно «русский Чикаго», в том смысле, что Новосибирск, благодаря своему положению, сделается коммерческим и финансовым центром так называемого
«русского Запада», территории гораздо более обширной и значительно более дикой, чем, когда бы то ни было, американский запад был»…
«Для меня Новосибирск особенно интересен, как попытка пролетарского строительства городов. Ведь, то, что хотят сделать нынешние новосибирские правители, это – превратить большую деревню в современную столицу. Их подход к строительству диаметрально противоположен тому, который был в старое время. Первой заботой прежнего правительства в таком предприятии было бы сооружение губернаторского дворца, который обыкновенно являлся выдающимся зданием в городе, так что каждый ребенок и каждый торгующий на базаре крестьянин мог бы показать его приезжему. Совсем не так при власти пролетариата. Несомненно, что «они» никогда не задумывались о «губернаторском дворце». Дело не в том, что даже постовой милиционер не мог мне указать квартиры «нынешнего губернатора» -- председателя Совета, латышского коммуниста, по имени Эйхе. Все новые постройки созданы для общественных целей. Эти здания представляют довольно внушительный вид в торговой части города, наиболее внушительный вид нового строительства, чем в любом из городов России. Склады, банки, советские учреждения из темного кирпича или блестящего гранита – возвышаются подобно могущественным гигантам над окружающими их деревянными хижинами. Институт Ленина, с его массивными колоннами из искрящегося темного гранита». (Очевидно, автор спутал колонны Дома Ленина с колоннами здания Сибкрайисполкома) «и Дворец Труда -- главный штаб профсоюзов – с его белым покровом и готическими башнями превосходят все другие здания по красоте, если не по величине»…
Я переждал «поток восклицаний», и разыскал подходящее заключение.
-- «И все-таки, в целом, Сибирь отсталая страна…Это все еще огромная пустыня, с одной железной дорогой, пересекающей ее нижнюю зону, с немногими и бедными подъездными путями, с единичными фабриками и городами. Что за отвратительные города! Что за дома, лишенные какого бы то ни было комфорта! Какие мрачные улицы!».
-- Вот, наконец-то, настоящая правда…
Тимофей замолчал. Больше нечего было сказать.
-- Пустыня. Сколько надо сделать.
!Сколько!
-- Я написал стихи, -- сказал я.
Тимофей вдруг заулыбался, не обращая на меня внимания. Он выругался.
… Здорово, все-таки, построено. Сибирь это -- доллары – раз. Большевики строят – не зевайте – два. Сибирь отсталая страна, не справиться, мол, -- три. Чёрта с два!
-- Я написал стихи…
-- А?
Тимофей повел плечами, потянулся.
-- Вот мы всегда так. Тратим время не знай на что…
Он демонстративно лег на узкую мою кровать.
Я открыл том Сибирской Советской энциклопедии; но это была не книга, это был рекламный макет, наполненный чистой бумагой, на которой я писал стихи. В комнате моей два шага – от кровати до стола. По стенам северные фотографии, портрет Ларисы Рейснер в рамке из мягкого уральского камня, высушенные морские звезды, полки с книгами. За окнами светлая душная июньская ночь. В стихах говорилось о севере, о «Стране Будущего». Стихи были вдоволь путанные и романтические. Я понял, что в них не хватает веса, как железной руды в Кузбассе. Поэтому, прочитав, я сказал:
- Здесь нужно еще одну главку или две. Главное выразить…
Сколько надо сделать.
Все переиначить…
Очень трудно. Но вдали мы ясно видим… Азия расколота взрывом. Южное море лижет наши берега. У теплой голубой воды наш город. Движущиеся улицы. Улица, шириной в километр. Ровные ряды уходящих зданий…
Тимофей встал.
-- Моя мысль проста,-- сказал он, глядя в угол…-- Конечно, повседневный социалистический напор даст нам со временем больше ресурсов, чем любой
Алдан 4…конечно, главное. Но, как хорошо было бы найти сгусток драгоценной руды и бросить лишний миллиард в наше строительство! Так, знаешь, удесятеряет скорость мотор, когда нальешь иссякшую, по недосмотру, смазку. Если бы это было в другой стране, это было бы ребячеством. А что мы знаем о Сибири? Она не исследована на 75 процентов. Надо искать… У меня есть серьезные подозрения насчет гористой страны вдоль западного побережья Таймыра. Долго говорить, почему. Я решил ехать.
Тимофей зарделся. Я был очень доволен: все это стоило стихов. Тогда, наверно, чтобы взять реванш, Тимофей критически раскрыл мой макет «Сибирской Советской Энциклопедии».
«Нансен – норвежец – Норильские горы», -- совершенно непонятно. Если имя Нансена еще вызывает ряд ассоциаций, в том числе книгу «В Страну Будущего», то Норильские горы приклеены только для музыки. А что значит: «Скрытые в тундрах тяжелые руды выйдут на рынок из рамок строфы?» Я еще могу понять, что это означает -- будут существовать не только в воображении поэта, но, ведь, искусство для всех…
Меня эти вопросы очень волновали. Непонимание вызывает вражду. Учитель Топоров ведет очень интересную работу в коммуне «Майское утро» (Барнаульский округ). Топоров читает крестьянам современных авторов и записывает отзывы слушателей. Нет более страстной аудитории! Прочтите стихотворение своим добрым знакомым. Они скажут: «браво», «ничего себе», «так-так». Крестьяне говорят обстоятельно и подробно и сразу ловят самое главное, самое сердце вещи. И, если они не могут понять этого главного, -- негодованию их нет границ…
Я говорил.
--Топоров прочитал коммунарам стихотворение: «Похороны моей девочки», предварительно объяснив непонятные слова. Там есть такая строфа:
Она как-будто бы летит,
Остались глазки не закрыты.
Застывший вдруг метеорит
Сдавили синие орбиты…
Крестьянка Носова сказала: -- «Стих объяснять надо, но немного. Географию про небо знать надо. Я поняла, к чему слова: метеорит и орбиты. Это глаза и веки» … Стихотворение хвалили. Один же из слушателей, не понявший этих двух слов, бранил стихи: « Орбит в метеорите застыл»,- говорит, -- «загнул философию»… Не все ли дело в том, что надо побольше объяснять «географию про небо»?
-- Ну, ну! – ответил Тимофей …Помиримся на формуле, провозглашенной в «Сибирских огнях»: «Язык должен быть прост и ясен настолько, насколько позволяет содержание».
Тимофей много курил, и моя маленькая комната наполнилась дымным туманом. Наши разные мысли смешивались, как расплавленные металлы. Тимофей выпытывал у меня сведения о полярных морях, о норвежском способе ловли белухи, о Карских экспедициях. Я рассказывал.
У нас на шхуне «Профессор Б.Житков», была библиотека. Я сам выбирал для нее книги в Ленинградском отделении Госиздата. Я купил все книги о севере, стоявшие на полках магазина, в том числе северную беллетристику. Скоро я услышал вой и проклятья. У В.Лидина моряки прочитали, как ледокол «Серов», выйдя из Архангельска ранней весной (когда на Карском море еще видны северные сияния), везет зерно в Сибирь Северным Морским Путем, в обмен на пушнину и т.п. чушь. У другого писателя «героя» повести «сдуло ветром» под обрыв, к морю, и, новое несчастье, здесь героя настигли огромные волны; но какие же волны, раз ветер с берега? Какой-то поэт нарядил самоеда в «шкуру убитого тура»… Нет, так нельзя писать! Достаточно одного такого промаха, чтобы читатель потерял уважение к изобличенному автору.
«Северную беллетристику» на «Жидкове» брали с единственной целью, чтобы над ней поиздеваться, Помню, я был, кажется, еще реалистом 5, когда прочитал пьесу Валерия Брюсова о последних днях Земли. С тех пор я потерял к ученому поэту всякий вкус. В пьесе говорилось: воздух Земли растрачивается в межпланетном пространстве, люди закрыли Землю непроницаемым колпаком из стекла и металла… Дальше, за этим куполом, воздуха нет. Последние люди забыли знания былого человеческого расцвета, они умирают от бесплодия, им грозит уничтожение. Поэт Неватль проповедует, что надо открыть купол и тогда, с солнечным светом, вернется жизнь. В открытый купол уходит воздух земного «города» и последние остатки человечества погибают; но прежде Неватль поднимается к окну в крыше города и потом расписывает бледным девушкам и немощным юношам восторг самого настоящего восхода солнца, как будто Неватль вернулся с вершины Ай-Петри. Сам понимаешь, какой же «восход», если за окном безводушное пространство. Неватль должен был увидеть черное звездное небо, солнечную корону, солнце поднимающееся на том же черном звездном небе…
В комнату вошли поэт Иван Ерошин и товарищ Козлов, член нашей ячейки. Козлов был упаковщиком на складе, четыре года назад он был батраком. Он упорно учился. Ко мне он ходил, страдая писательским зудом: я поправлял его заметки для стенгазеты «Свой глаз».
-- Стихи еще хуже, сказал Тимофей.
Козлов не понял, о чем идет речь.
-- Нет, я не хочу без поэзии, -- сказал он авторитетно. – В поэзии есть ка-те-го-рическая красота. Вот, например, буржуазия. Ужас, как развращена… А поэзия у них высоко поставлена.
Ваня Ерошин подпрыгнул и щелкнул пальцами над головой:
-- Жемчужина в душе!
Тимофей сунул окурок в пепельницу и схватил кепку.
-- Ну, я пойду, -- сказал он.
Мы остались дожевывать неистощимую жвачку литературного спора.
4.
… «Мы должны быть застрельщиками в беспощадной борьбе со всякой «азиатчиной», обывательщиной, мещанством. Изображению нашей страны с точки зрения захолустного обывателя, «хлыстовствующего во стихии»6, должен быть положен конец. Мы должны смотреть на Сибирь с точки зрения промышленной стройки, огромных промышленных возможностей, гигантских сырьевых запасов, используя которые пролетариат превратит Сибирь из пустынной тайги и тундры в «Страну Будущего»…
( Из резолюции Омской группы Сибирского Союза Писателей).
5.
Тимофей быстро прошел темные кварталы улицы Максима Горького и вышел на площадь Революции. Окна Центральной гостиницы светились, как просветы зари. Ночь была тиха. Пыль улеглась. Созвездия касались карнизов и щетинистых контуров строящихся зданий. Тимофей думал о желанной экспедиции на Таймырское побережье.
Он попал в состав экспедиции случайно, встретившись у меня с капитаном Шимковым. Тимофей улыбался, забыв поэтическую приподнятость. Он знал несколько углов, точек зрения, откуда город казался большим, современным, странным. Смотреть так было лучше, чем слушать стихи. – «Все-таки, мы строим», -- слушал он голос своих успокоенных мыслей. – «Строим»… Слово было таким жарким, что ни о чем не хотелось думать, как о любви. Тимофей остановился на Красном проспекте. Прошел автобус и, вслед за низким урчанием мотора, высоко, с Дома Ленина, запела скрипка. Здесь помещалась радио-студия. Тимофей поднялся на ступеньки, ведущие в Дом Ленина. Молодая женщина прошла мимо, не оглянувшись. Тимофей улыбнулся: так вот какая «точка зрения» привела его сюда!.
-- Таня! – крикнул он.
Она пела в студии, зарабатывая на студенческую ленинградскую зиму.
Девушка поклонилась.
-- Я уезжаю, -- сказал он.
Тогда она протянула руку.
6.
Докладчик вытер лоб и расстегнул крючок морского кителя.
Выводы были ясны.
Вот уже десять лет, ежегодно, морские суда приходили в Обскую губу и поднимались далеко вверх по великому Енисею, забирая тяжеловесные сибирские грузы – лес, графит, хлеб, кожи, волокно – и отдавали речным флотилиям заграничные товары. Льды Карского моря больше не пугали ледовых капитанов. Иностранные страховые общества снизили свои ставки на сотни процентов. Северный Морской Путь, еще недавно овеянный мечтательным туманом героизма, покрылся цифрами промеров, кружками радиостанций и крепкими выкладками коммерческого расчета.
-- Карское море никогда не замерзает целиком. Льды Карского моря находятся в постоянном движении. Карские льды плавают, гонимые ветрами, и, загромождая одни районы, освобождают другие. Летом, когда открываются проливы, все искусство кораблевождения в Карском море сводится к тому, чтобы знать, где идти. Решающую роль здесь играет радио, ледовая разведка… Такая организация привела к тому, что в иные годы морские караваны Карской экспедиции проходили в устья сибирских рек и возвращались обратно, не встречая на своем пути льдов, как будто это был обыкновенный рейс в привычные европейские порты, а не экспедиция в полярном, пользующимся дурной славой, азиатском море. Лишь иногда приходилось прибегать к помощи ледокольного парохода, сопровождающего морские суда. Все эти случаи также оканчивались успешно и также при содействии ледовой разведки, устанавливающей ширину ледяных перемычек и проходимость плавучих льдов в разных местах. Вообще же, можно установить принцип, что в Карском море следует избегать форсировать льды, надо их обходить. Для этого надо точно знать, где скопились льды, где море свободно, каким проливом идти. И, разумеется, надо хорошо знать все пути достижения цели, все фарватеры, чтобы в неблагоприятные годы воспользоваться любым, может быть, единственным из всех, милостью ветра оставшимся свободным от льда…
Архипелаг между Обью и Енисеем не только не был исследован, но даже не нанесен достаточно точно на карту. Капитаны, ходившие там, внезапно обнаруживали, что, если верить картам, они давно идут по суше…
Конец доклада был посвящен сложным и малопонятным доказательствам на тему, почему оказались недостаточными результаты работ прежних немногочисленных гидрографических экспедиций и вопросу согласования экспедиции с «Убекосибирью» (Управление по обеспечению безопасности кораблевождения к устьям рек Оби и Енисея). В целях экономии средств основные задания экспедиции предполагалось соединить с рядом других исследовательских работ.
Выводы были ясны; но у докладчика дрожали пальцы рук. Он боялся москвичей, бывших на заседании. Перед докладом он разговорился с одним из членов президиума и обнаружил, внезапно вспотев, что тот не знает, куда течет Иртыш. Что было делать? Даже в Большой Советской Энциклопедии напечатано, что гора Белуха находится в Томском округе, а город Мариинск этого округа в Ачинском. Поэтому доклад тянулся, как якорный канат на мели. Его никак не удавалось вытравить до жвака-галса 7.
-- Товарищ Шимков, кончайте, -- тоскливо сказал председатель.
Шимков взглянул на никелевые карманные часы в руке председателя. Шимков глотнул воды, подергал бороду и ответил: «Сейчас». Про себя же решил, что замечание председателя означает угрозу делу и заговорил еще медленнее, стараясь придать своим доводам совершенно отчаянную выразительность.
Он закончил доклад неестественно повысив голос, еще больше краснея и театрально декламируя заключительную фразу, очень выигрышную, по его мнению, которую ему помог составить Тимофей Иванов.
-- Создание регулярного товарообмена Северным Морским Путем – достижение советской власти и мы должны этим гордиться и закреплять успех.
Председатель встал. Он слушал доклад со скукой. Работа почти не оставляла ему времени для так называемой «личной жизни». Поэтому, когда темп работы замедлился, он испытывал нехорошую дрожь. «Личная жизнь» была также необходима в общем процессе, как дыхание. Сегодня, в 20 часов, он обещал встретиться с Анной.
-- Вопрос был достаточно проработан в комиссии, сказал он строго. – Предлагаю утвердить предложение об организации Морской Научной Экспедиции и перейти к рассмотрению сметы. Возражений нет? – И, заметив, что молодой завторготделом больше, чем нужно, расширил грудь, быстро повернулся к докладчику: -- Принимается! Ваша смета. Покороче.
Моряк оживился, поняв, наконец, что экспедиции не угрожает никакой опасности и выложил свою смету в 10-15 минут; но здесь он проявил еще большую неопытность. Смета была проработана им до мельчайших деталей, он мог бы поспорить с лучшими экспертами, что каждая графа стоит именно столько, сколько показывала стоящая в ней цифра. Однако, известно, что искусство сметы заключается отнюдь не в точности расходов, а в даре предвидения, насколько, в зависимости от обстоятельств, смета будет урезана.
-- Не следует запрашивать слишком много, -- говорил мне по этому поводу товарищ Воблов, главбух Всекобанка, - тогда вы рискуете, что всю смету забракуют; но нельзя запрашивать и слишком мало, так как в таком случае нельзя будет безболезненно проявить режим экономии и вы получите меньше желаемого…
Во всех этих вопросах Шимков обнаружил «детскую неосведомленность», как сам признавался впоследствии. В пять минут его смета была урезана на 6.000 рублей. Зал опустел. Шимков задержал какого-то низенького толстяка и растерянно доказывал, глядя сверху в его гладкую лысину, что для экспедиции необходимо именно 31.502 рубля, а не 25.000.
- Я ничего не знаю! – сказал человечек.
Шимкову показалось, что в таком случае, для выражения своих «чувств», было бы уместно вытянуть вперед шею и губы и «развести руками». Он не сделал этого, потому что портфель его был слишком тяжел. Шимков повернулся вокруг вертикальной оси на 180⁰ и помчался. Да: все мелькало – автобус, Красный проспект, овраги. Он кроил Тришкин кафтан своей сметы. Ничего не выходило. Комитет пересмотрел проект экспедиции и «сократил» геологическую партию.
Вечером, почти в 10 часов, Шимков собрал геологов.
Начальник партии, инженер Ермаков, седеющий, чисто выбритый, корректный, плотно сжал губы под короткими усами. Он подавил улыбку. Ему предложили работу на юге Сибири. Условия были хуже, но там перед ним была солнечная страна, свежий кумыс и обильный стол. Ермаков боялся севера, он согласился участвовать в экспедиции, увлеченный товарищами, а в сущности из мужского, еще не остывшего бахвальства. Он был рад так же, как радовался бы после мирного завершения какой-нибудь не совсем безопасной связи.
-- Очень жаль, сказал он, возвышенно сдвинув брови. – Очень жаль, что когда находятся люди, готовые жертвовать собой, мы жалеем грошей для такого важного дела, как исследование Сибири…
Он встал, продолжая поучительно говорить в том же роде и, вежливо простившись ушел. Студент – горняк Мюллер, надеявшийся на другую работу у Ермакова, ушел вслед за ним.
-- Маркел Андреевич, неужели они пожалели шести тысяч?
Тимофей проглотил слюну.
-- Что поделаешь… режим экономии… сами знаете… - ответил капитан, глядя в раскрытую карту Енисея. – « Чёрт знает, что говорю. Вот ерунда», одновременно думал он и краснел под своей бородой цвета морских водорослей.
-- Чиновники, мерзавцы! – крикнул Тимофей.
Он шел, пьяный от злобы. Нет, не то и не то! Все, кого он знал, были хорошими работниками. Враг был безличен, он стоял за спинкой канцелярского стула у самых надежных товарищей. И был он очень страшен, этот чиновник, неуловимый, как тень. Луна освещала пустынные улицы. Знакомые звезды плыли в бледном небе. Под этим сухим сибирским небом никогда не подумаешь, что ты дома. В городе видишь огромную степь, тайгу, великий континент и, где бы ни был, хочется идти еще дальше. Тимофей вышел в центр. Город, который он любил, вдруг показался отвратительным. Дома его были либо деревянные, либо железобетонные, как будто здесь каждый год случались землетрясения; но землетрясений в этих местах никогда не было и не могло быть. Далеко, за оврагами, разгоралось оранжевое зарево. Деревянные дома горели каждый день и каждую ночь. Железобетонные, все построенные недавно, походили на крепостные сооружения. Казалось, на их два-три плотных этажа, можно взгромоздить еще десять-двадцать.
-- Проклятый американец!. – так, приблизительно, текли горячие мысли Тимофея…
-- В пролетарском понятии о красоте первую роль играют назначение и цена вещи.
Когда купец украшал свой особняк балкончиками, башенками, решетками – нам это нравилось: пусть, мол, тратит из своей мошны на то, что могут посмотреть другие. Теперь нам не надо ничего лишнего. Мы хотим домов, в которых можно было бы жить, как можно больше таких домов… Мы вовсе не приходим в восторг от нашего «Дома Ленина», не потому, что его архитектура напоминает смесь Исаакиевского собора с мавзолеем, а потому, что на затраченные средства можно было бы построить, по крайней мере, два таких, пожалуй, гораздо лучших дома…
Тимофей шел, сжимая скулы, в упоении своей злой мечты. Он думал, что на ближайшем пленуме Горсовета он скажет все, все. Он скажет, что из-за этих коренастых зданий срывается его исследовательская работа.
-- Да, да!
Вдруг Тимофей увидел себя у памятника Ленина перед фасадом Дворца Труда. Две темных фигуры тесно прижались к пьедесталу.
-- Вот, -- неожиданно сказал Тимофей. Мысли продолжались вслух. Его низкий голос дрожал страстью оратора, поднявшегося среди врагов. – Крупская говорит, Ильич перед смертью просил: не ставьте мне, пожалуйста, памятников, не тратьте денег. Нет, поставили-таки!
Влюбленные отскочили. Женщина побежала. Тимофей ощутил веселый прыжок, улыбнулся и пошел к ближайшей скамейке сквера.
Тимофей сидел там, и его мысли поднимали и давили, как звездный свет. На каланче ударили часы. Тимофей вспомнил, что часы третий раз били по разу. Была половина второго. Тимофей встал. Он вспомнил все то, что называлось «дом», и хотя думать обо всем этом не хотелось, он зашагал быстро, наклонив голову.
Электрический ток в домах центра был выключен. В этих домах никто не жил, кроме сторожей. Улицу пересек ассенизационный обоз. Липкое зловоние наполнило сознание. Квадратные, едва прикрытые ящики, на дрогах, громыхали по рытвинам, и мерзкая жидкость расплескивалась, пропитывая сухую дорожную пыль. В городе умирали тысячи детей от дизентерии. У председателя окрисполкома умер ребенок; но ассенизационный обоз оставался таким же, каким был пять лет назад. Страшные дроги катились, сея заразу, как невоплощенные видения Гойи 8.
-- Город начали строить не с того конца, -- думал Тимофей, и мысли шли где-то рядом, вместе с зловонием. – По-прежнему эти лучшие здания, как было до революции, заняты под магазины, конторы, бюрократические учреждения, в лучшем случае под клубы и кинематографы. Люди приходят туда не каждый день, большинство на несколько часов, на несколько минут в день; а жизнь свою проводят в избах, в бараках, где, вместо канализации, -- выгребные ямы, вместо водопровода – жестяные рукомойники, разводящие сырость.
Зловонный обоз опять загромыхал по проспекту.
-- Надо взять в нашей ячейке ОСОавиахима 9 противогаз, -- пробормотал Тимофей. – Раздайте гражданам противогазы! – вдруг крикнул он, увидев милиционера.
-- Гражданин, ответил тот странным голосом. Тимофей понял, что милиционер –женщина. – Ступайте-ка, проспитесь.
Тимофей поклонился, улыбнувшись.
-- Извините, я насчет вони…
Женщина пошла к перекрестку, повернув к Тимофею свое светлое лицо под форменной фуражкой.
-- Вы, кажется, образованный, а можете дать панику.
Тимофею стало веселее и легче от этого женского выговора. Он вошел в деревянные улочки, называвшиеся, подряд, именами классических писателей. Унылый пьяница топал вниз по удивительной траектории. Он вскинул веки, поравнявшись с Тимофеем.
-- За что боролись? – закричал пьяный, но не смог остановиться.
Тимофей засмеялся: лозунг всех бузотеров, подошел к его мыслям!
-- Чёрт, какая это гнусь канючить втихую над своими же ошибками…
Он подтянулся. Вопрос не решался меланхолическими жалобами. Тимофей машинально толкнул калитку. Запах теплого навоза засвидетельствовал, что Тимофей пришел домой. Он жил у извозчика. Во дворе, у обглоданной березки, уцелевшей от былой тайги, лежал человек, верхом на нем сидел другой, в расстегнутой солдатской гимнастерке. Лежачий придушенно завыл и задрыгал голыми ногами. Тимофей вынул наган.
-- Что делаешь? – сказал он громко.
Человек в гимнастерке спокойно обернулся.
-- Здравствуйте, Тимофей Степанович, -- тоскливо сказал он.
Тимофей узнал извозчика.
-- Что у Вас, Петр Смарагдович? – наклонился Тимофей, незаметно пряча револьвер.
А то же, -- ответил хозяин. – Нажрался и орет. Мильтоны еще придут. Мне бы, вот, вожжами его…
-- Пусти-и! – завыл парень.
-- Нет, товарищ. Протрезвись. Нет.
Тимофей помог связать пьяного. Они оставили его под деревом, и он сразу умолк.
-- Пристроить бы … -- робко сказал Петр Смарагдович.
-- В Карскую сейчас набор, спрошу, -- невольно ответил Тимофей и подумал, что сам бы охотно нанялся матросом.
Он прошел темные сени, открыл дверь. В кухне горела керосиновая лампа. Девочка, прислуга, спавшая на топчане, покрытом рогожкой, подняла голову и прикрыла грудь. Тимофей медленно отвернулся. Он сжал зубы и вошел в свою комнату.
Мария Георгиевна сидела на кровати одетая. Тимофей взглянул на жену и нахмурился. «Начинается», -- подумал он. Лицо ее было бледно и неподвижно. Он подошел к рабочему столу. Молча раскрыл книгу.
-- Где был? – выдавила Мария Георгиевна.
Она была блондинка, голубоглазая, с мягкими чертами лица, довольно полная и с очень худыми для нее ногами. Тимофей смотрел на серенький шрифт и видел почему-то лишь эти неприятные ноги. Говорить ему не хотелось. Как ей скажешь, что он три часа разглядывал знакомые постройки?
-- Заседание было, -- автоматически ответил он.
Мария Георгиевна как-будто этого и ждала. Она заговорила с мучительной радостью, торопясь и так же не двигаясь с места.
- До двух часов ночи все заседание? И наглости хватает!
Чёрт ведь не унесет в экспедицию. Все собирается. Хоть бы уж не мучилась. И, ведь, не подумает, как я здесь одна сижу… Пойти, ничего не сказать. Положим, что тут скажешь? «Я пошел к ней на квартиру». Стыдно немножко.
-- Маша, -- безнадежно сказал Тимофей. – Не надо…
Все это уже было, все это позорно повторялось и всегда Тимофею не хватало, за работой, времени додумать до конца, одолеть ненужную ложь. Они поженились в один из голодных годов, потому что она кормила его хлебом, который добывала в деревне, у тетки. Тогда жить вместе казалось ему не то вызывающим, не то благоразумным. У них родился сын, Электрон. Ребенок умер от дизентерии. Их связывало горе. Тимофей ждал: вот будет другой ребенок, такой же, как первый. Но ребенка не было…
-- Не надо! – крикнула она. – А мне сидеть, как на иголках три часа, надо? Или ты забываешь про это?. Действительно. Отправился. Шляется неизвестно с кем до двух часов, ни слова не сказав. И крутится, и крутится…
Тимофей взял два больших куска ваты и заткнул уши. Тогда она вдруг подбежала и стукнула его сзади по голове. Тимофей вскочил. Горячий ток коснулся корней волос на его голове, кулаки сжались; но он рассмеялся: Мария Георгиевна отскочила в угол и вздрагивала там, у медного самовара, стывшего на табуретке.
-- И это я! – прошептал Тимофей.
Они действительно подрались раза три за время их жизни вместе.
-- Не беспокойся, -- сказал он.
Говорил он в таких случаях всегда не то, что надо. К счастью, взгляд его остановился на кепке, брошенной на самовар. «Вот это то, что надо», -- подумал Тимофей. Он кинулся в угол. Мария Георгиевна закрылась рукой.
-- Ты не смеешь, не смеешь, -- забормотала она. – Я на тебя в суд подам…
-- Дура! – крикнул он, схватив кепку.
А когда он ушел, Мария Георгиевна выбежала на крыльцо и долго испуганно звала мужа:
-- Тима, Тима, ты куда?
Тимофей не слушал. Его шаги громыхали по деревянным мосткам, настланным вдоль улиц. Он шел быстро, почти бежал, стремительно и неуверенно, как арестант, выбравшийся из подкопа.
-- Куда?
Бешенство неясного и большого гнева опустошало его, мысль вспыхивала горячими клочками, повинуясь какой-то лохматой логике… -- Мы-мы-мы!. Самые передовые законы в свете… А надо было попросту запретить жить в одной комнате; выжечь с корнем всякие эти «супружеские права»… Чёрт, а где взять их, так просто решающие все «проклятые вопросы», лишние комнаты?
-- И опять огромным прыжком мысль человека возвращалась к северным пространствам, к богатым залежам руд в пустыне, и оттуда к «сокращенной» геологической партии и… и… -- Он не додумывал: «Все это та же наша нищета».
Да, здесь мало было выносить резолюции, устраивать кустарным способом свою «личную» жизнь. Избы, крыш которых он едва не касался плечом и бетонные мастодонты центра, милые советские чиновники, с полным сознанием своей государственной правоты «съэкономившие» шесть тысяч на исследовательской работе и комнатная истерика, -- во всем этом была невидимая прочнейшая связь…
-- «Межениновская, 90!» -- вежливо доложил встречный домовой фонарь.
Шимков! – Тимофей вспомнил его адрес. Капитан жил на Межениновской, совсем близко. Тимофей побежал через улицу. Деревянные шаги его мгновенно стали беззвучными от мягкого глушителя – пыли. «Слава богу» (он так подумал, охваченный тишиной, еще раз спохватившись, как тянет нас все это чужое и готовое): ставни у капитанской комнаты были открыты, окна светлы. Шимков сидел за большим чертежным столом.
-- Маркел Андреевич, я по делу, -- сказал Тимофей.
-- А,а … Тимофей Степанович…
Капитан встал, застегивая воротник мягкой белой рубашки.
Тимофей влез в окно. Дверь против окна приоткрылась.
-- Кто еще тут у тебя?
-- Это я, Варвара Павловна, -- покраснев, громко сказал Тимофей, обращаясь к темной дверной щели.
-- Как вы поздно!
-- Я сейчас, сейчас…-- ответил, вместо Тимофея, капитан Шимков, перебирая на столе бумаги.
Дверь демонстративно закрылась с треском.
-- Вот все вожусь с колдоговором…
-- Маркел Андреевич, -- перебил Тимофей. – Я не был бы коммунистом, если бы из-за каких-то чиновников… ну, из-за денег, скажем… отказался бы… Словом, я предлагаю работать бесплатно. Мне необходимо ехать с вами. Я прошу вас…
Шимков взглянул на него с любопытством.
-- Как же это без денег? А ваша жена?
-- Продам вещи. Ну, это вас не касается!
-- Да, да, – поспешил Шимков. -- Я, знаете ли, ничего не имею. Как Комитет.
Тимофей сник. Шимков снова внимательно посмотрел на его потемневшее лицо. Он нравился ему простой силой и еще чем-то, необычным. Тимофей незаметно кусал губу под светлыми, жесткими, коротко остриженными усами.
-- Впрочем, -- сказал капитан, беря его за руку. -- Я вас беру. Я буду платить вам… пятьдесят рублей и паек. Из хозяйственных сумм. Вы будете моим секретарем… Бумаг, знаете ли, гора.
Тимофей ответил крепким радостным рукопожатием.
-- Вот спасибо! Вы настоящий человек!
Они поговорили о деталях своего плана и простились у окна. Шимков повернул выключатель. Рассветал день.
-- Только, пожалуйста, помогите мне написать проект колдоговора, -- выдал, наконец, свои тайные расчеты капитан.
-- Хорошо, завтра же состряпаем, -- кивнул через плечо Тимофей и спрыгнул с подоконника.
Капитан закрыл окно. Минуту Тимофей шел быстро, потом шаги его стали замедляться. Он остановился на перекрестке. Хорошо было бы на самом деле уйти сейчас к Тане. Тимофей тоскливо улыбнулся: ведь они с ней ни разу еще не поцеловались…
-- И совсем у меня с ней не то! – вдруг громко сказал он и смущенно оглянулся; но улица была пуста.
Он пошел привычным путем. Теперь уже не стоило вытряхивать напоказ свой домашний скарб. Что значит несколько дней? Все будет решено. Он уедет…
Примечания.
1 сокуй -- верхняя мужская одежда у народов севера Западной Сибири -- рубаха глухого покроя с капюшоном из сукна или меха, надеваемая поверх малицы или парки.
2 юрак – ненец.
3 лаг -- (от голл.Log)-прибор для определения скорости судна и пройденного им расстояния относительно воды.
4 Алдан – река в Якутии, правый приток Лены и город на Амуро-Якутском тракте. Центр добычи золота и слюды. До 1939г. – посёлок Незаметный.
5 был… реалистом – учился в реальном училище.
6 «хлыстовствующего во стихии» -- намек на секту «хлыстов» ( одна из мистических христианских сект в России), культивирующих самоистязание .
7 жвака-галс -- (от голл. zwak-hals), приспособление для крепления коренного конца якорной цепи к корпусу судна. Выражение «вытравить до жвака-галса» означает выпустить якорную цепь на всю её длину.
8 Гойя (Goya) Франциско Хосе де (1746--1828) -- испанский живописец, гравер. Свободолюбивый новатор.
9 ОСОавиахим – Общество содействия авиации и химической защите.
Сибирские огни, 1929, №6, С.3-20.
Е Н И С Е Й
(из книги «Страна Будущего»)
1.
… «Ветер был встречный, мы шли на парах и бросали якорь, когда течение становилось слишком сильным. Так мы боролись несколько дней, но ветер усиливался. Наконец, я решил повернуть к Енисею. Мы пошли поперек залива. Мы скоро нашли остров, которого не было на карте… На следующий день мы продвинулись вдоль скудно-очерченной земли, сквозь густой туман, дождь и южный шторм…
Наконец, мы оказались окруженными землей и были принуждены бросить якорь между низкими песчаными островами, косами и отмелями. Облачный покров был густ и непрерывен, так что мы не могли определиться ни по солнцу, ни по луне, ни по звездам, проведя двое суток в этом опаснейшем соседстве… Наконец, удалось выйти,
9 сентября мы достигли островов и высокого правого берега Енисейского залива, где Норденшельд¹ основал порт Диксон. На следующий день (в воскресенье) поднялся неистовый шторм, со снегом, крупой, изморозью. Могучие волны принудили нас дрейфовать, вместо того, чтобы искать спасенья в устье реки. Последнее было бы безумием, мы были бы неизбежно выкинуты на косу или предательскую песчаную банку.
Около четырех часов после полудня мы обнаружили, что мы быстро приближаемся к островам, высоким, диким, каменистым… Риск был велик – идти между такой стаей скалистых, в железном кольце рифов островов; но продолжать дрейф было бы еще большим риском, волны мчались теперь, как горы, дождь, изморозь – со всеми признаками, что к ночи шторм перейдет в ураган.
В полночь мы принуждены были отдать оба якоря и в течение двух суток продолжали бороться с бурей»…
Низкий гудок, внезапный и радостный, как перемена, заставил Тимофея повернуть голову. Он отодвинул книгу в красном заграничном переплете. Это был дневник капитана Виггинса², ходившего Северным морским путем в Енисей полвека назад.
Тимофей читал вслух. Капитан Шимков улыбнулся. В Красноярском затоне он отыскал морской пароходик, построенный как раз во время капитана Виггинса, в Ньюкастле³. Пароходик предназначался на слом. Поэтому он оказался подходящим для научной экспедиции: Госпар⁴ уступил его за 4000 руб. Пароходик назывался «Север».
Солнце раскалило палубу и переборки. В капитанской каюте, на спардеке ⁵, настежь была открыта дверь. Матросы купались в Енисее. Стремительное светлое течение плавно несло их головы и плечи. Матросы выходили на берег ниже пристаней и голые шли одеваться. Вверху, по бульвару набережной, у чугунной решетки, граждане и гражданки г.Красноярска грызли семечки. Женщины купались близ плашкоута ⁶, палуба которого была покрыта крестьянскими подводами. Плашкоут качался между берегами на длинном закрепленном тросе, как медленный маятник. Мужчины купались молча, женщины визжали.
На противоположном берегу, на холмах, там, где лес был выкорчеван, зрели хлеба. Земля миновала свой медленный афелий ⁷. В этот день метнаблюдатель радиостанции острова Диксон, лежащего у 74º северной широты, вышел к приборам в одном синем кителе. Был июль.
Катерок наполнялся толпой, похожей на оперный хор. Катерок рейсировал между Красноярском и Базаихой, откуда шла тропа к знаменитому заповеднику «Столбы».
На головах «столбистов» горели ярчайшие платки, загорелые груди, в рамках расшнурованных маек -- голубых, оранжевых, красных – были обнажены. На ногах – мелкие галоши, привязанные обмотками. Почти все девушки также носили короткие штаны и майки. Тимофей наводил на них объектив фотокамеры, девушки махали котомками, кричали адреса, убежденные, что он обязан прислать «карточку». Тимофею хотелось быть с ними, среди этих милых маек. И он почему-то думал: «Скорее, скорее!»
Катерок стал отваливать, царапая низким фальшбортом ⁸ ржавое железо «Севера». Капитан Шимков шагнул к судовому телеграфу, схватил рупор.
- Осторожнее! – закричал капитан.
- Что, боитесь за ваш ледокол? – ответили с катера.
- Хорошо вам смеяться… начал Шимков, но катерок быстро развернулся и отвалил к середине реки. Капитан поставил рупор, прибавив несколько выразительных слов, полагающихся в таких случаях.
Шимков подновил «Север», покрасил его и отремонтировал паровую машину, показавшую около 35 л.с. При благоприятных условиях все это «машинное сооружение», по выражению боцмана Осыркина, могло двигаться со скоростью от 6 до 7 узлов ⁹. В первый раз Шимков лихо подвалил к дебаркадеру ¹⁰, крепко приткнувшись бортом. В тот же день помощник Шимкова, молодой гидрограф Петров, обнаружил над ватерлинией трещину, длиной с фут ¹¹ . С тех пор они обращались с пароходиком осторожно, как с креслом больного…
Впрочем, для «сердца» моряка «Север» выглядел вовсе не плохо. Труба поднималась над самым ютом¹², рядом шли красивые спардечные помещения: капитанская каюта, штурманская и штурвальная рубки. Между мачтами шли провода антенны. Длинный бак¹³, с паровой лебедкой, с железным камбузом, высокий форштевень и круглые, герметически завинчивающиеся иллюминаторы, придавали ему «морской вид», как утверждал Петров. С этим все решили согласиться. Поэтому завхоз экспедиции, только что приехавший из Новосибирска, привлек внимание всего экипажа.
-- А, наконец-то, Лев Александрович… Пожалуйте-ка сюда! – крикнул Шимков.
Завхоз поставил свои чемоданы у трапа, на красноватые прибрежные булыжники, и рассеяно спросил:
-- Как? На этом чугунке мы и поедем!
Потом, выпив, он признавался, что хотел было сразу отказаться от службы, но мысль о полярной ставке удержала его. С множеством предосторожностей, он поднялся на спардек.
-- Копылков, -- отрекомендовался завхоз.
Тимофей Иванов с удивлением пожал руку старика. Завхоз был высок, худ, с классической бородкой, тонкими выпачканными табаком усами и большим мягким носом. Глаза, конечно, за двояковогнутыми стеклами. Матрос в трусиках прошел мимо, красный от солнца. На завхозе была черная сатиновая косоворотка и «пиджачная пара». Капитан повел его показать кладовки, трюм, места, где можно было бы хранить провизию. Копылков волновался, заявлял, что «слагает с себя всякую ответственность», пока не надоел Шимкову «окончательно». Капитан подозвал лотового ¹⁴ и велел ему ехать вместе с завхозом покупать муку. И завхоз поехал.
-- Интересно, -- осторожно спросил Тимофей, -- ваш завхоз, вероятно, бывший моряк?
Капитан посмотрел на Тимофея, как на невинного юношу.
-- Какой он моряк, разве вы не видите? – Он бухгалтер. Для отчетности. С ним я могу быть спокойным. Спец. Книги будут в порядке. А как же иначе?
Тимофей придвинул красный том Виггинса.
-- Интересно, -- повторил Тимофей, Вот, в этих морях плавали Виггинс, Нансен ¹⁵, Норденшельд. Как, по вашему, у них тоже было по бухгалтеру?
Шимков отвернулся, помедлил. Он был деляга и не особенно разговорчив, когда речь шла о «больших вопросах».
-- Понимаю, куда вы гнете, -- пробормотал капитан…-- Нет, у них кроме вахтенного журнала и записной книжки, наверно, ничего не было. Они были хозяевами или им доверяли. А у нас… все надо на бумаге… Ну, давайте кончим, однако.
Дисциплина въелась в Тимофея еще в армии. Он открыл журнал и стал писать приказ о назначении Фомы Тинькова судовым коком.
Тимофей быстро выводил канцелярские слова. Папки дел, журналы «исходящий – входящий», загромождали стол. Все это хотелось выкинуть. Тимофей работал за письменным столом шесть часов и все еще не кончил своей дневной порции. Экспедиция уходила в пустынное море на три с половиной месяца. Зачем требовались команде страховые книжки? Тимофей заполнил 18 штук. Затем следовали расчетные книжки и огромные анкеты. Возня с колдоговором¹⁶ заняла больше недели. Он получился, наконец, таким сложным, что никто в нем не мог разобраться. Тимофей пододвинул приказ на подпись и сказал:
-- Мы хотим так поставить дело, чтобы и без хозяина обходиться одним вахтенным журналом.
Капитан Шимков засмеялся: «Мечты, мечты!»
- Вы, может быть, РКИ ¹⁷ отмените? – спросил он.
У капитана был смутный расчет «поставить молодого человека на место», и, кстати, блеснуть своим острословием; но ответ был спокоен:
-- Пожалуй, только с тем, чтобы растратчиков расстреливать.
Тимофей шесть часов провел за маленьким письменным столом, привинченном к палубе и переборкам капитанской каюты. Работа была глупая, но зато он в один день познакомился с командой «Севера», приходившей за своими «бумагами». Всех по штату было 18. Раньше он знал из команды только двух лотовых -- Спицина и Прокофьева. Оба они были здоровые молодые парни, готовые «хоть куда», по их словам.
Прокофьев был тот самый пьяница, которого Тимофей помог связать на своем дворе в Новосибирске. Он ходил на «Севере» в трусиках, красный от солнечных ожогов. Ему казалось, что так он больше походит на комсомольца. Он был необыкновенно вежлив, трезв и скромен.
Был еще один любопытный матрос (о нем можно бы сказать в стиле «рыжебородый детина», это к нему на самом деле шло) по фамилии Водяча, неизвестной славянской разновидности, хотя лотовые называли его не иначе, как «Герр Водяча», потому что был он в германском плену и умел говорить по-немецки. Под бородой, в качестве универсального талисмана, он таскал крестик.
Кочегары: Михалкин, Малахов и Чепрунов были постарше, они не «скулили» весь день, как лотовые и много рассуждали о колдоговоре. К ним на пароход приходили их жены.
Чепрунов был коммунист. Союз водников выдвинул его в профуполномоченные коллектива экспедиции. Чепрунов подошел «познакомиться». Тимофей встал, чтобы крепче пожать его руку. Кочегар был выше, тяжелее. В прорехе расстегнутого воротника черной косоворотки полз белый шрам.
-- Надо бы ячейку организовать, товарищ секретарь, -- сказал Чепрунов.
-- Нас, ведь, всего двое, -- улыбнулся Тимофей.
-- Лоцман третий.
-- Лоцман? – (Оба помощника механика и лоцман еще не появились на пароходе. Шимков спокойно сообщил, что они шляются по кабакам. По его мнению, это было «в порядке вещей»). -- Какой же он коммунист, если три дня не может протрезвиться?
-- Это не тот лоцман, -- ответил Чепрунов. --Того мы возьмем в Енисейске.
Пропавшие пьяницы беспокоили Тимофея.
-- Придут, -- махал рукой боцман, Савелий Иванович Осыркин. – Пособку получили, как же моряку не выпить?
Савелий Иванович был прислан союзом водников. Он очень гордился своей удачей и, хоть и выпивал, но все время был на виду. Савелий Иванович был мал и коряв, как истый вятский землероб. В морском деле он ничего не понимал. Шимков учил его завязывать узлы, бить склянки, задраивать люки… Но где же было, чуть ни в центре величайшего материка, за тысячи километров от всех океанов найти настоящего боцмана?
Научный состав экспедиции, после всех сокращений, состоял из двух гидрографов – Шимкова и Петрова (помощника капитана), астронома-геодезиста Бабышева и радиотелеграфиста Евдокушина. Всем им часто приходила мысль, что пароходик надо было использовать и для других исследовательских целей (прежде всего надо было сговориться с Академией наук); но теперь было поздно. Надо было сделать то, что можно было сделать.
Время шло томительно и как-то неясно. Тимофей ночевал один в четырехместной каюте. Копылков, помещавшийся вместе с ним, «проводил время» на берегу. Тимофею были интересны моряки; но в городе с ними можно было разговориться только в каком-нибудь «уютном местечке». Любой матрос зарабатывал больше Тимофея. Ему едва хватало на обед в дешевой столовке. Паек, обещанный Шимковым, во время стоянки пропадал (поэтому, понял улыбнувшись Тимофей, он и думал: «Скорее, скорее!»).
Ночь шла над Енисеем, вздрагивая бирюзовыми отблесками по краям звездного неба. Черные хвойные горы замыкали мир. Тимофей привык к степному горизонту. Он вспомнил товарища, такого же степняка, который, поеживаясь от воспоминаний, говорил: «Город в горах, это город в дыре». Простор был впереди. Простор заставлял торопиться. Казалось, жизнь уходит слишком быстро, лучшая часть истрачена и надо наверстать. Тимофей не испытывал ни привязанности, ни раздражения по отношению к тому, что осталось позади. Он вспоминал жену так, как будто она ушла очень далеко. В сущности, -- он посмотрел в прозрачную темную воду, -- вот пропади он сейчас, о нем никто… Да, мама поплачет; но до нее так далеко: двадцать лет и две тысячи километров. Хорошо было бы пожать руку Тане. Он даже не простился с ней.
-- Ну и пусть, -- сказал он вслух. -- Буду жить сам, работать!
Все это было нелепо. Утром Тимофей вышел на ют голый, в трусиках, к радости лотового Прокофьева.
-- Петя, -- крикнул Тимофей, -- поплыли!
Он спрыгнул с борта.
Матрос нагнал его. Пыхтя от крепкой усталости, они переплыли быструю реку и потом долго отдыхали на песке острова, подставляя солнечным лучам свою голую человечью кожу, освобожденную от противоестественной духоты одежды. И солнце выручило Тимофея.
Лоцдистанция сообщила, что уровень воды в Енисее быстро падает и что на Ладейском перекате, над самым городом, осталось всего семь футов. «Север» сидел на шесть футов. Прокофьев увидел у борта «Севера» капитана Шимкова. Капитан отчаянно махал белой фуражкой. Они вскочили и, забежав вверх по течению, снова бросились в реку. Когда они подплывали, капитан крикнул Тимофею в рупор, что надо «срочно» писать приказ: в три часа «Север» уходит.
К трем часам Тимофей ощутил на груди солнечный ожог. Движение соединено с ветром, ветер с прохладой. Желание движения росло; но «Север» не уходил: помощник механика и кочегар пропали.
-- Пусть догоняют!. – сказал, наконец, с долгой руганью, капитан Шимков.
Капитан повернул рукоятку судового телеграфа.
Десятого июля в 16 часов 14 минут, «Север» снялся со швартов.
Лоцман прошел Ладейку и передал штурвал рулевому.
-- Так держим! – степенно скомандовал он.
Тогда моряки, стоявшие у телеграфа, выпрямились и сняли фуражки.
Петров, красивый, высокий, в белом кителе, в лакированных ботинках подошел к лоцману и протянул ему руку.
- Ну, как говорится, с отвалом…
2.
Ночью «Север» встал на якорь перед опасным каменистым перекатом. Деревня рядом носила красноречивое название «Шивера»¹⁸ . Суета остановки соединила всех. Кок, Фома Тиньков, замечательно бесцветный, принес в чайнике кипятку. Кают-компания напоминала столовую ответработника в Новосибирске: обеденный стол, покрытый клеенкой, буфет до потолка и стулья (прибитые к переборкам узкие диваны позади стола и иллюминаторы, изобличавшие морское устройство каюты, могли не идти в счет при свете десятисвечевой лампочки). Стол был легкомысленно накрыт снедью из «личных запасов» участников экспедиции, хотя каждый собирался беречь их по крайней мере «до моря». Даже Тимофей принес плитку шоколада, предназначавшегося для похода в тундре. Афанасий Петрович Бусыгин, механик, скромно поставил бутылку водки. Тогда-то и начались рассказы, продолжавшиеся каждый раз, когда люди сходились у прямоугольного стола в кают-компании.
-- Я служил в ту пору на «Дедушке», -- сказал Афанасий Петрович. – Вахту отстоял, пошел спать. Вдруг просыпаюсь от холодной воды. Я крою, конечно, матом, думаю, это связчик мой, Митька. Вскочил -- темно, никого нет и вода подходит под чувствительное место. Я к двери и к трапу, на ощупь, так и выбежал в одном исподнем…
Афанасий Петрович рассказывает, выпрямившись, иногда нерешительно трогает седеющий ус. Он моряк «старой службы». За Афанасием Петровичем выступает Савелий Иванович… Так, на проверку, оказывается, что весь Енисейский флот побывал в «подводном плавании».
-- Серьезная река.
В пути жизнь налаживается по правилам, возникающим безмолвно. Вышло, что Тимофей стал заведовать аптечкой и библиотекой, которые помещались в одном и том же ящике буфета. Из аптечки Тимофей выдавал, пока-что, лишь английскую соль для боцмана, да ландышевые капли завхозу. Библиотечка составилась из беллетристики, выданной союзом водников, и дюжины научных книг. Романы взяли читать матросы. Справочники Шимков унес в штурвальную рубку. Тимофей читал оставшиеся дешевые издания о Сибирском крае.
Странно звучали цифры. Их было как-то неловко даже читать. Тимофей краснел. Цифры были похожи на мечту голодного о роскошной жизни. Енисей рассекал величайший в мире лес.
-- Сколько стоит каждое дерево? – спросил Тимофей. Петров вычислил.
-- Рублей десять, двенадцать.
Цифры вопили о другой жизни, не похожей на настоящую. Это было на палубе. Цифры шли большой далекой тучей, а на переднем плане, у ржавой лебедки, топали грязные пимы ¹⁹ Савелия Ивановича, вышедшего из гальюна.
Тимофей приготовил кодак ²⁰.
Течение становилось все стремительнее. Приближался Казачинский порог. Лоцман нырнул в штурвальную рубку и взялся за колесо, напротив рулевого. У берега мелькнул диковинный пароходик «туер», поднимавший суда вверх, через порог, посредством троса, наматывающегося на барабан.
«Север» пролетел порог, покачиваясь, как щепка в канаве, после хорошего ливня.
Тимофей следивший за видоискателем, едва успел взглянуть на шумные волны и скалы. Снова впереди лежал прямой и ясный плес, скованный каменными берегами.
И снова прекрасный лес.
Утром, через день, река раздвинулась вдвое: Енисей слился с Ангарой. Плесы шириной в три, четыре, пять километров. Горная чистая вода – изумрудная при ветре, стальная в тишь. Здесь вместе текут воды Алтая, Байкала, Монголии, Танну-Тувы. Истоки их лежат среди снежных белков, голых таскылов²¹ Саян, на высоких плоскогорьях Центральной Азии. Из всех стран мира Сибирь первая страна белого угля, а из всех рек Сибири Енисей – самый могущественный.
Енисей…
Я останавливаюсь и думаю, почему теперь так смешно было бы писать приемами Гоголя, провозгласившего в знаменитом своем «лирическом отступлении» всякую чушь об украинском Днепришке? Пришлось бы объявить, что не только «редкая птица долетит до середины» Енисея, но что его никак не перелететь на дирижабле. В отношении же грозы последовать стилю популярных изданий Госиздата: «Это был настоящий ад, а сверх того, лил дождь и бушевала буря»…
Воображению современного человека гораздо больше говорят краткие таблицы расстояний и глубин, чем длинные восторги. Цифры могут говорить таким же поэтическим языком, как самые возвышенные гиперболы.
«Енисей, -- длина от Бей-Кема до Гольчихи 4063 км, наибольшая ширина – свыше 50 км («редкая птица долетит до середины Днепра»!) и большая известная глубина – 30 сажен; только 8 порогов Ангары оцениваются в 1200000 лошадиных сил».
«Север» подходил к Енисейску, Огромный плот, тысяч в десять бревен, плыл по середине реки.
-- Это наша, карская, матка, -- пояснил Шимков.
Плот казался небольшим пятном на ровном плесе. Река разлилась в песках. Западный берег, который на Енисее называется «Наволочным» в отличие от правого высокого, «Каменного», здесь поднялся крутояром, как западный берег Волги.
На крутояре, плечо к плечу, точно неприятельская цепь, полдюжины зеленоглавых церквей. Русь… Но здесь ни гудков, ни выхлопов моторов. Бесшумное утро.
Был праздник. В старинном соборе Енисейска Тимофей нашел темные лики столетних икон, тишайшего сторожа, невеселые «возгласы» дьячка и, против ожидания, безлюдье. Тогда Тимофей подсчитал, что если мобилизовать всех енисейских старух, то на все енисейские соборы, церкви, монастыри их все равно не хватит. На телеграфных столбах «на проспекте» были расклеены объявления: горсовет созывал «общее собрание граждан города Енисейска». Очевидно, предполагалось, что «граждане» могут поместиться в одном порядочном зале. Объявление было вторичным, енисейцы на собрание не явились. Время было боевое: солили капусту.
Тимофей шел, дивясь на енисейский мир: казалось стопудовые, изъеденные сменой лет, доски тротуаров, ряды берез по краям зеленых улиц, солнечный день, тишина – все такое прочное, на самом деле необыкновенно эфирно, нечто вроде киносъемки с «машины времени», уходящей в прошлое. Человек с топором, с уздечкой, с черной тюлевой сеткой на голове, оторвал от афишки клочок на цигарку. Афишка вещала, что через неделю группа местных любителей будет ставить пьесу: «Скандал в благородном семействе». В центре города, где сосредоточены советские учреждения, самая большая вывеска гласила: «Енисейский губернский союз кооперативов», с твердым знаком и с «и» с точкой. Даже ораторская трибуна на площади, построенная во время революции, мало чем отличалась от музея, напротив.
Тимофей долго ходил вокруг музея, занимавшего старый купеческий «гостиный двор». Все его двери были заперты гостинодворскими замчищами. Заведующий музеем уехал на рыбалку вместе с музейными ключами. Так, впрочем, мог бы уехать и председатель исполкома, и секретарь райкома, и начальник ГПУ.
Наступил полдень. Июльское солнце (в енисейской тишине) грело мощно, по-южному.
-- «Курорт»…
И – в ответ на забавную мысль – на самом деле вынырнули: коричневый чистильщик сапог, такой же, как в Батуми и Севастополе, дама с открытой шеей и голыми руками, с ровным густым загаром, каким щеголяют москвички, вернувшиеся с южного берега Крыма; рядом топтался унылый еврей с Ильинки, в поддернутых брючках, в моднейших остроносых полуботинках, до колик нелепых рядом с броднем ²² у корзины с рыбой.
-- Ссыльный?
Южанка взволнованно посмотрела на Тимофея. Русые волосы, серые глаза, крепкие челюсти. Плечи. Может быть, опора в ее положении?
Тимофей улыбнулся.
-- Нет, не совсем… А вы, простите?
-- Да так, знаете ли, рабочим квартир не хватает. Вот нас и ссылают… Вечером мы собираемся в столовой артели безработных. Приходите – узнаете.
-- Приду, -- поклонился Тимофей.
Он поставил сапог на ящик чистильщика. «Чертовщинка» -- подумал он. Кругом были мизерные лотки торговцев. Жаркий воздух приносил странные осколки разговоров.
-- Душа мой, зачем здесь сидишь: зима будит замерзнишь?
-- Папирос на базар торговал без патент, вот в Гепею ²³ попал.
-- Вы здешние?
-- Мы астраханские. Невинно страдаем.
-- За что?
-- За убийство хомутов.
-- Как это…
-- Понимай, как знаешь, шагай, куда шагаешь.
Из-за березы вышел капитан Шимков. Он свирепо оглядывался.
Когда Тимофей оказался у него на траверсе, капитан заметил его и закричал:
-- Тимофей Степанович, хоть вы!
-- Что случилось?
-- Вы ушли, я вывесил приказ о водке и, оказывается, поторопился.
-- Какой приказ?
-- Вы разве не знаете, что для нас Енисейск последнее пьяное место? В Туруханском крае «сухой закон». Я написал приказ, чтобы на судне не было ни одной бутылки. Пойдемте, надо нанять грузчиков. Муку я достал.
- А завхоз?
- Пьян. Никак не ожидал. Совершенно развезло старикашку.
В 1848г. на золотых приисках енисейской тайги было добыто 860 пудов золота. В прошлом Енисейск был большим кабаком для шального таежного золота. Теперь едва ли добывается 60 пудов. Теперь Енисейск маленький придорожный кабачок.
Тимофей и капитан Шимков шли через город. Моряк из Енисейской лоцдистанции прошел мимо. Тимофей посмотрел ему вслед. Здесь, в толпе ссыльных, сидельцев и обывателей, вездесущих, как христианский бог, моряк напомнил о той силе, которая скоро сдвинет с места все это зеленое маховое колесо. «Север» стоял на якоре. Когда они садились в шлюпку, их окликнул невысокий человек в таком же синем морском кителе. В руке он легко нес чемоданчик, обтянутый дешевой материей.
-- Товарищ Тюрягин? – спросил Шимков.
-- Да.
-- Наш лоцман.
Лицо у него было скуластое, неподвижное и улыбчатое.
Чепрунов встретил их в коридоре.
-- А, Сема, здравствуй!
Он тряхнул руку лоцмана, чтобы Тимофей понял, какие они с лоцманом давние приятели и что они, в случае чего, будут заодно.
Тимофей вспомнил и сказал первый:
-- Ну вот, теперь нас трое. Можно организовать ячейку.
Они закрылись в каюте и немного торжественно помолчали.
-- Я, конечно, предлагаю секретарем избрать Тимофея Степановича.
Тюрягин кивнул.
-- Что тут говорить, дело небольшое.
Они опять помолчали.
-- Были на хлебозаготовках? – спросил Тюрягин.
Члены коммунистической ячейки парохода «Север» выпрямились. Здесь вспыхивала классовая война.
-- Конечно. А вы?
-- Уполномоченным в своей деревне.
-- Как, по-вашему, дела?
-- Ну, как там как… План выполнили. А посеяла наша деревня больше, чем в прошлом году, на три каких-то гектара. Земли у нас 1300 гектаров, а посева 300.
-- Плохо.
-- Кулачье есть, сволочное. Разве его скоро прошибешь?
Мне товарищ говорил: в Западной Сибири все крестьянство идет в коммуны. А мы далеко, мало на нас обращают внимания.
-- Кто на вас внимания не обращает? Сами вы на что!
-- Да, ведь, машины нужны!
-- Машины…
Оба они одинаково помолчали и одинаково вздохнули.
-- В нашу страну сколько не вали, все мало.
-- Надо бы побольше и поскорее.
-- Поскорее кончать с нехватками, -- сказал Чепрунов. – У кого как, а у меня пять человек ребят…
-- Вот мы идем искать новый путь для Карской. Если поставить дело как следует, можно будет по три месяца в году водить морские суда в наши реки. Лес у нас все равно гниет. Надо его менять на машины…
-- А общее собрание было? Доклад был?
-- Нет, -- ответил профуполномоченный Чепрунов и покраснел.
-- Я записал, -- сказал Тимофей. – «Постановили: разъяснить команде значение экспедиции».
-- Еще, -- прибавил Чепрунов, -- надо бороться с пьянством.
-- Записал.
-- И со скверными словами, -- добавил Тюрягин.
-- Ну, это как сказать…
-- Ты что же, не одобряешь?
-- Я не против…только который раз мы постановляли, ничего не выходит. Я скажу, потом вспомню.
-- Записал, -- сказал Тимофей. – Крепкое слово, сказанное во время аврала, не засчитывается.
-- Вот так будет правильно… У нас, ведь можно сказать, каждый день аврал, общая работа.
-- Ну, за «каждый день» мы тебя взгреем.
-- Ладно, ладно. Вахта моя скоро, попробую сейчас, как выйдет.
-- Выйдет.
-- Закрываю собрание, -- сказал Тимофей.
-------------------
Вечером Тимофей пошел в город. Тимофей хотел воспользоваться тишиной опустевшего судна и поработать; но город у борта – вещь отвлекающая, магнитная. Шимков остановил Тимофея.
-- Загляните, прошу вас, в безработную столовку. Не там ли завхоз? У него сумка с деньгами.
«Та, дура, подумает, что я из-за нее пришел», -- испугался Тимофей, но ответить было нечего.
-- Хорошо…
В Енисейске недавно вымостили кирпичом квартал главной улицы и для этого сломали стены одного из купеческих домов «доброго старого времени». Когда кирпич понадобился для Туруханской радиостанции, его также, не задумываясь, добыли из енисейских развалин. Домов в Енисейске пока хватает.
«Столовка» занимала весь второй этаж каменного выбеленного здания. Из больших комнат шел звон и гул. Тимофей прошел меж столиками, пивными бутылками и огненными рожами пьяниц. Он увидел завхоза. Старик спал, сидя на волнообразном диване, закрыв глаза и нос кожаным картузом. Черный лакированный козырек сиял. Седые усы и бородка торчали покачиваясь, как из под шлема поверженного Дон-Кихота; но руки старикана крепко сжимали большую кожаную сумку, повешенную на ремне, через плечо.
-- Не беспокойтесь, мы за ним посмотрим.
Тюрягин встал. Чепрунов тоже был здесь. Они пили пиво, но были трезвы. За круглым столом сидели Прокофьев, Спицин, Водяча и женщина. Ее темные волосы были острижены, лицо блестело. Она смотрела на Тимофея. Глаза ее были черны, как будто из одних зрачков.
-- Садитесь к нам, Тимофей Степанович, -- сказал Чепрунов.
-- Садись, сероглазый, садись…
Она выругалась совершенно машинально.
-- Что это вы, Екатерина Евдокимовна, не можете воздержаться! – покраснел Водяча.
-- Молчи ты, герр немецкий.
Это была Катя Простокишина. Тимофей слышал о ней раньше. Он пил, хотя страшно не любил пить, но он не хотел, чтобы Тюрягин и Чепрунов заподозрили в нем показную выдержанность.
-- Мужа проводила, вот и гуляю.
-- Куда проводили, Екатерина Евдокимовна?
-- На верх ушел. В Минусу.
Борода Водячи задела его щеку.
-- Вы не подумайте чего, -- сказал он. – Она баба… не подойдешь.
Так проходило время.
Парнишка в блузе и в джимми ²⁴ расшаркался из дымной мути.
-- На минуточку, товарищ, -- сказал он.
-- Ага… Вы меня подождите, сказал Тимофей. – Интересно взглянуть, что за птицы.
Навстречу встала та самая спецдама: «Здравствуйте, здравствуйте. Простите за беспокойство и т.п.!» Она «представила» унылых мужчин, занимавших самый далекий столик. Оказалось, компания уже доподлинно знала, почему Тимофей Иванов в Енисейске, что делает в экспедиции и что он -- коммунист. Тимофей выслушал ряд историй о несправедливости «местных советских властей», но когда начался подходец насчет влиятельного мнения «краевого партийца», он откровенно зевнул и стал посматривать в сторону веселой компании «Севера». – «Дело не выйдет» -- решили невольные енисейцы. Тимофей отмахивался, как умел: никакого, мол, «влияния» у него нет. Тогда бутылки стали наклоняться чаще. Лысый взял гитару. Лицо его отражало меланхолическую философию: «А не все ли равно на этом свете?». Он запел самодельные куплеты, разученные для любительского спектакля:
« Мы только спецы,
Люди науки,
Гони монету
В наши руки…»
И припев:
«Есть у нас один девиз
Хапай, но не попадись!»
-- «Скандал в благородном семействе», -- вспомнил Тимофей и, собрав все свои познания о театральной галантности, простился.
В потемневшем окне блеснуло громадное стальное зеркало Енисея.
-- Черт! Великая река течет мимо. Великий Северный путь!
-- Ты что же, коммунист, а с контриками якшаешься! Ну!
Катя подмигнула Тюрягину и Чепурнову, они поддержали ее, рассмеялись.
-- Это товарищ у меня один есть; просил разузнать разные разности, -- нашелся Тимофей.
Завхоз проснулся от Чепруновского смеха и тотчас же заснул снова.
-- Кто сказал?. – успел он пробормотать (следовало знаменитое словцо).
На этот раз захохотали дружно. Завхоз попробовал подняться.
-- Помогите, помогите ему, ребята, И вообще, айда,айда! Дело есть.
Тимофей встал. В его движении было привычное приказание, тренировка войн. Прокофьев поднял старика, приговаривая: «Капитан зовет, капитан зовет». Завхоз, для сохранения престижа, стал протирать свои неотъемлемые стекла. Катя покрыла его, как говорится, ради лишней порции хохота.
-- Капитан зовет, капитан зовет! – крикнул Тимофей.
-- Сейчас.
-- Сероглазый! Черт! Моего кавалера отымаешь.
-- А ты приходи к нам на «Север».
-- Приду, приду. Очень ты мне понравился.
Улицы были пусты. Лаяла собака. На сломанном заборе, у фонаря висели обрывки плаката, уничтоженного курильщиками. Тимофей прочитал крупные буквы…
«П я т и л е т н и й п л а н …
Т е м п а м и, н е в и д а н н ы м и А м е р и к е…
Д о г н а т ь и п е р е г н а т ь»…
Тимофей посмотрел вниз, сквозь толщу Земли. Там, на противоположной стороне планеты, в солнечном свете, грохотала эта Америка. Здесь на берегу Енисея, было так безмолвно, что Тимофей остановился, оглядываясь. Матросы, отставшие с завхозом, подошли.
-- Ну, как вам нравится наш город? – засмеялся лоцман.
-- Погодите, вот проведут к нам железную дорогу, тогда мы опять загремим… А если примут наш енисейский вариант…
И Тимофей услышал, передавая длинную и смутную речь лоцмана вкратце, следующее:
«Надо строить не второочередную дорогу Усть-Кут – Тайшет или Тулун, а Томск – Енисейскую дорогу продолжить до Усть-Кута или Киренска, с тем, чтобы впоследствии продлить ее до соединения с Амурской ж.д. Этот путь прошел бы через золотые россыпи, уголь, слюду и разрешил бы вопрос о соединении сибирской железнодорожной сети с глубоководными фарватерами Енисея и Лены. Если считать такую дорогу магистралью от Новосибирска (куда упрется сибирская сверхмагистраль) до Советской гавани в Японском море, получится тот кратчайший Великий Северный путь, о котором так бестолково писали некоторые европейские северяне, и который вместо многих миллиардов обошелся бы в несколько сотен миллионов рублей» …
Тимофей улыбнулся. Он шел впереди своего веселого отряда по темным енисейским улицам, по мягкой от летней пыли земле и совсем не чувствовал притяжения этой земли.
-- Знаете, -- медленно говорил Тюрягин, -- что-то у нас медленно решают такие вопросы. А так, вообще, лучше стало жить. Голодно и весело, как будто опять война…Уж больно я не люблю сидеть на одном месте!
--------------
Утром приплыли пропавшие пьяницы. С перепугу они не дождались даже пассажирского парохода. Они купили лодку и вечером, в тот день, когда ушел «Север», принялись грести. Течение мчало их со скоростью от трех до двадцати узлов. Они скатились в Енисейск, с пятидесятисаженной горы, как на салазках.
Хмель в пути, в особенности после порогов, вылетел из путешественников без остатка… Помнилось, были они, с виду, разные, а теперь, к потехе кубрика, оказались одной масти: у помощника механика Караваева рожа стала такой же красной, как у розовощекого латыша Плюме: до того нажгло их солнце и жала комаров.
Испуг друзей и предприимчивость, вызванная испугом, еще не прошли. Перешагнув борт «Севера», они принялись работать так рьяно, что никто уж не решался удрать в «безработную» столовку. К полдню погрузка была закончена. Тогда проспавшийся завхоз объявил, что нигде не может найти кока и потому «снимает с себя ответственность».
-- Мешка его на койке тоже нет, товарищ командир, -- доложил боцман. – Со вчерашнего дня пропал.
Шимков побледнел.
-- Необходимо высадить береговую партию, -- пробормотал он…Damn!* Я хотел сказать, Тимофей Степанович, возьмите кого-нибудь, разыщите кока.
-- Коля, пойдем, -- позвал Тимофей.
Прокофьев стряхнул муку, натянул рубашку и, по пути, прицепил на пояс финский нож.
Фома Тиньков сидел в пустой столовке. Перед ним стояла только одна бутылка пива.
Мешок с вещами лежал рядом, на стуле. Тиньков был тих и грустен.
-- Захворал, товарищи, разрази Бог.
-- Аванс забрал, вот и захворал, -- загнул Прокофьев.
Тимофей взял Тинькова за руку.
-- Пойдем в больницу, если не врешь.
Тиньков повиновался бестрепетно и вяло. Больничный врач, раздраженный неурочным налетом, велел ему раздеться, ничего не спросив, выслушал, помял селезенку и бросил, взглянув на Тимофея: «Притворяется».
-- Сволочь, -- сдержанно заметил Прокофьев.
-- Разрази бог! – сказал кок.
-- Пошли, -- резко крикнул Тимофей.
-- Да, разрази бог…
-- Что там разговаривать, -- сказал Прокофьев и двинул Тинькова к выходу.
-- Не имеешь права!
-- Какие там твои права, -- усмехнулся Тимофей. – Что нам стоять из-за тебя в этом Енисейске! Будешь удирать, можем и в трюм посадить до моря…
Тиньков побледнел.
-- Позвольте, товарищи, слово одно доктору сказать.
Тиньков увернулся и подскочил к врачу. Зашептал на ухо.
-- Ну, так бы и говорил! – плаксиво прикрикнул врач.
Он увел Тинькова в смежную комнату и через минуту вышел с ним, покрасневшим,
как сваренный рак.
-- Не может ехать. Гонорея.
-------------------------------------------------
* Проклятие! (англ.)
Что было делать? Брань в неудаче делу не помогает. Впрочем, Тимофей ругался. У нас, ведь, самая неприличная ругань иногда употребляется для приличия. Они вышли на солнце.
-- Пойдем в столовку. Может быть найдем кого-нибудь.
Прокофьев крутанул коричневой мускулистой шеей.
--Там все коки ссыльные. Гепеу не даст… А вы, Тимофей Степанович…
Он вдруг запнулся.
-- Что?
-- Катька вчера напрашивалась, нет ли места? Она за кока может.
-- Женщину неудобно.
-- Как же так, Тимофей Степанович? Вы коммунист, а за женские права не заступаетесь. Команда рада будет: и кок и постирать за свою плату.
-- Вот завел! Да я не потому… А она пойдет?
-- Говорила пойдет. Да ей не в первый раз. Капитан знает.
-- Пошли спросим.
Хриплый рев, раздражающе долгий, полетел с реки. Они сразу узнали голос своего «Севера», ускорили шаги. Шимков метался по спардеку. Схватив рупор, он обозвал их идиотами и рохлями, пока они плыли в шлюпке. Тимофей обозлился, но потом вошел в «морской вкус» и стал отругиваться.
-- Дак , черта ли, кок обоих вас нужнее! – кричал капитан.
Тимофей поднялся на борт и рассказал несложную историю Фомы Тинькова. Петров, Бабышев, Тюрягин, боцман и завхоз стояли здесь же и ругань была разнообразная. Завхоз обстоятельно докладывал, что все это правилами не предусмотрено и пропавший коков аванс расстроит всю бухгалтерию.
-- Есть одна женщина, -- сказал Тимофей. -- Хочет ехать за кока.
-- Бабу нельзя.
Прокофьев опять не удержался.
-- Это Катька, товарищ командир, не просто баба.
-- Катька, это да, -- поддержал Тюрягин.
-- Ну, Катьку можно, -- сразу согласился Шимков.
Катя Простокишина была знаменита на Енисее, на Оби и на Иртыше. Ни один матрос не мог ее «перескулить»; но потому, по правде сказать, и брали ее в море, что она стоила двух матросов.
-- А пойдет она сегодня?
-- Какие у нее сборы!
-- Так вы уж, Платон Иванович, приведите ее скоренько.
У капитана Шимкова был «особый талант на имя и отчество».
Он помнил всех и это льстило простым людям. Платон Иванович Тюрягин тотчас же спрыгнул в шлюпку и лихо «заголандил» к берегу. Вернулся он с плетеной корзинкой на плече, увесистой и хозяйственной. Катя шла позади (в красном платке, оранжевом ситце, в смазных сапогах), поплевывая подсолнечную шелуху.
-- Вот, сероглазый, -- закричала она. – Говорила, приду и пришла.
-- Ого! – подмигнул капитан, вдруг вообразив себя в роли бывалого забулдыги, -- смотрите у меня…
Тимофей выругался.
-- Пошли, я тебе всякие бумажки напишу, -- сказал он женщине.
Звенья якорной цепи загремели. Матрос крикнул. Механик дернул рукоятку, и лебедка остановилась. Якорь был поднят. Звякнул телеграф: «Полный вперед». Опять в круге иллюминатора понеслись водяные струи. Движение – это все, что нужно.
3.
Енисей уходил к северу огромными прямыми плесами. Течение стало медленнее и берега ниже; но еще один раз, перед тем, как уйти в спокойную жизнь низовий, красавец поиграл стальными мускулами. Промелькнул Осиновский порог, и река, суживаясь и вздуваясь, ринулась в ущелье Енисейского кряжа. Это место, называемое «Щеки», шириной сажен в триста. Глубина здесь, по карте, -- тридцать сажен, а по мнению лоцмана, -- «все сорок». Два острова – «Кораблик» и «Барочка», два исполинских камня, покрытые лесом, делят поток на два рукава, идущих между одинаково высоких, темных, каменных стен.
Лицо Тимофея горело. Он не замечал паутов ²⁵, напавших на пароход.
-- Какая энергия замкнута в каждом шаге этого великолепного водяного? Что если загородить бетоном и сталью эти стремительные проливы? …
Тимофей прикидывал: если поднять плотину метров на сорок, уровень поднимется до самого Енисейска… Если только Кас не потечет вспять и Енисей не уйдет в Кеть и Обь.
Никто не изучал этих уровней. Никто не знает… Если исправить фарватер в нескольких местах ниже или построить специальный флот, морские суда будут ходить в Енисейск. Сколько это будет стоить?
-- Ты что, сероглазый? Жену что ли вспомнил? Замлел весь.
Катя Простокишина смеялась замечательно. Тимофей видел, что женщина отметила его из всех. В таких случаях в человеке всегда начинается всякая всячина.
Коля Прокофьев, втыкавший в паутов «соломинки», смотрел на Тимофея улыбаясь. Тимофей не выдержал:
-- Откуда столько паутов? – сказал он.
-- Да какие огромные, -- подтянула Катя.
-- У нас таких нет.
Из железного гальюна, громыхнув тяжелой дверью, вышел завхоз.
-- Катька, -- сказал он хозяйственно, подтягивая брюки, поставь чайник.
Последовал обмен любезностями, не употребляемыми в печати.
-- Тимофей Степанович, слышите, как лается? – заявил завхоз.
Остыркин старательно пробил четыре склянки. Тюрягин вышел на вахту.
– Сегодня у нас общее собрание, Лев Александрович. Вот мы и поставим вопрос. Ячейка постановила.
-- Оно, конечно…, -- автоматически вздохнул Савелий Иванович.
Прошла неловкая минута: и сказать нечего, неизвестно, что здесь правильно скажешь, и выходит – будто прав старый чинуша, а не веселая баба, из-за которой на посудине стало куда как лучше.
-- Стыд, -- сказал Тюрягин.
-- Срам, -- подтвердил Савелий Иванович.
Общее собрание назначили, потому что все-равно потребовалось встать на якорь, потушить топку, переставить колосники. Петров сделал доклад о задачах экспедиции. Тимофей говорил о высокой роли исследователей. Завхоз выступил с хозяйственным отчетом. Тогда разговорилась вся команда. Было ясно, что, несмотря на бухгалтерию, в море придется впроголодь. Постановили закупить двух быков и несколько баранов. Тимофей сказал речь насчет сквернословия. Он раскрыл гнусное, рабье происхождение русских ругательств. Катя пылала, прилившей к лицу кровью. Копылков «торжествовал»:
-- А сколько раз ты меня обозвала, хуже, чем хан татарский?
Матросы помалкивали, чуть усмехаясь, но Чепрунов, набрав духу, предложил:
-- Взыскивать на культурные нужды по полтиннику за каждое слово.
Трубки и цыгарки задымили чаще. Кстати таежный гнус добрался до «Севера», хоть ставь дымокур.
-- Нет возражений?
Шимков крякнул и решился, как Чепрунов на заседании комячейки:
-- Крепкое словцо во время аврала, погоды там или по работе не засчитывается. А то и жалованья не хватит.
Все обрадовались такому выходу и встали. Профуполномоченный все же успел выкрикнуть ритуальную фразу:
-- Собрание считаю закрытым!
Тимофей заметил, что Катя кинулась к двери, в коридор. Тимофей подождал в кают-компании, поговорил, для виду, с Бабышевым о высоте «Щек», о рельефе русла Енисея и пошел разыскивать Катю.
Камбуз был пуст. Катя сидела, отвернувшись, в полутемной своей каютке. Плечи женщины вздрагивали.
-- Ты ревешь? – неожиданно ласково сказал Тимофей. Он смутился и прикрикнул:
-- Брось! Ты что ли одна? Все лаются.
--Уйдите вы… -- Катя запнулась. – Совсем я не реву. Базлал, базлал на собрании. Не понимаешь, что с мужиками иначе нельзя. Все вы охальники!
Механик включил динамо. Электрические лампочки и цветные фонари засветились в светлых сумерках. Водный горизонт впереди сливался с небом. Тимофей подумал, медленно, как смена этих прямых плесов, что вот все время он сторонился Кати, хоть она была хороша; и теперь ясно, что показная ее распущенность только непонятное желание женщины не отстать от мужчин. Надо было изменить что-то. Он погладил ее волосы. Она взяла его руку. Рука у нее была жесткая, как стиральная доска. Нежные щеки потемнели.
-- Сероглазый, -- сказала Катя, -- у тебя в аптеке есть глицерин? Дай мне глицерину, больно руки ветреют…
На следующий день с утра вышел хохот и скулеж. Катя обмолвилась.
Профуполномоченный ходил за ней, приговаривая:
-- Плати полтинник.
-- Да за что полтинник?
-- Плати полтинник за…- и следовало то же словцо.
-- Ну вот, сам и плати!
Тимофей подозвал Чепрунова.
-- Не с того конца начали, я вижу. Попробуем проведем лучше хорошую беседу. Или стенгазету заведем. А то постановили: во время работы, во время аврала…
Кстати, скоро начался настоящий аврал, и Чепрунов забыл про свои культурные полтинники. Над Енисеем, как дым после взрыва, поднялись круглые облака. Грозовой шквал, по измерителю, достиг 10 баллов. Ливень был неистов. Острые волны забарабанили в борта «Севера». Пароходик, несмотря на «полный вперед», стал пятиться.
-- Приготовить якорь! – заорал медный рупор.
«Север», наискось к буре, пошел под берег. Сорванные деревянные суденышки болтались в пенной каше. На берегу стояла рыбачья деревня. Осыркин, с кувалдой на плече, дожидался команды; но якорь оказался не нужен. Железное брюхо «Севера» заскрежетало о гальку.
- Сели - пояснил Осыркин.
Гроза прошла быстро. Шимков попробовал было сняться с мели, но пароходик засел крепко. Приходилось ждать помощи. Изобретая как бы наверстать потерянное время, Шимков, разумеется, пришел к выводу, совпавшему с постановлением вчерашнего собрания. Завхоз спустился в кубрик.
- Кто желает в деревню, быков купить?
Несколько искателей самогона, спустили шлюпку. В кают-компании северяне вели разговор, похожий на отрывок из Генри ²⁶.
- Знаете ли вы Окотетту?
- Да. Это, кажется, певичка. Нет, вру, духи.
- Бухта, бухта Окотетта, откуда родом моя лайка.
- Ах, черт!
Николай Иванович Бабышев, грузный, веселый, выбритый от лысины до шеи, заразительно похохатывал. С берега донеслись звуки гармошки.
- Вечорка! – крикнула Катя. – Кто со мной на вечорку?
Тимофей вызвался не задумываясь: смех требовал движения.
- Пойдем…
Изба, откуда шли призывные звуки, стояла с краю, у обрыва.
Они поднялись по навозному отвалу и вошли, нагнувшись. Веселье чаще всего избирает жилище бедняка, -- кулак не потерпел бы такого беспокойства за 10 кило сеянки, в складчину. В комнате, у окон, образовался круг из парней и девушек, внесших свою долю. Девушки сидели на стульях и скамейках вдоль стен. Парни иногда присаживались на колени к своим подругам. Зрители стояли у входа, заглядывали в окна. Хозяева сидели на печи, похожие на домовых. На них никто не обращал внимания. В середине освещенного круга шло действо. Парень, вышиной с морскую сажень, топал броднями по кругу.
-- Это «палач», -- объяснила Катя.
Палач выбрал пару.
-- Тебе суседка люба?
-- Люба.
Девушка подставила губы. Поцеловались.
-- Ну, -- сказал палач , -- теперь повидайтеся при мне, не осталося ли мне.
Девушка, для виду, сопротивлялась. «Палач» вывел из круга одну из девушек, себе по росту. Мужик, стоявший рядом с Тимофеем, подтолкнул его локтем.
-- Что, пароходский, хороша деваха? Деваха во! Не глянь, что рыбачка,-- предсельсовета. Мы то приметили, мужики: бабу выберем, налогу будто меньше. Потакат начальство.
-- А ссыльные у вас есть? – спросил Тимофей, чтобы «поддержать разговор».
-- Есть шпана мелкая. Батрачат. Вон сидит, с гармошкой. Что ж, мы ничего, потеха.
-- Не воруют?
Мужик взглянул на Тимофея.
-- Ни-ни. Воровать в Енисейск ездят. Мы, товарищ, им сурьездно сказали: вот наша речка, а в случае чего подводная вам дорожка в Туруханск. Ни-ни…
Парень зашагал вокруг табуретки с председательницей сельсовета.
-- Сяду, сяду на добра коня,
Поеду во Китай-город гуляти,
Молодой своей женишечке подарков накупати.
Я куплю своей женишечке подарок
Славну, славну, преотличную шалку. ²⁷
Я положу эту шалку на серебряное блюдо,
Подойду к молодой жене поближе,
Поклонюся ей пониже:
Принимайся жена,
Не ломайся!
Руки парня были пусты, серебряное блюда и «шалку» он изображал жестами.
Девушка отвернулась от подарка, повела плечами. Он играл гнев.
-- Очень сердцем своим не гордися!
Посмотрите-ка, добрые люди,
Как жена меня, молодца, не любит.
Очень сердцем своим ненавидит!
……………………………………….
Я ишшо свою молодую жену уважу,
Сяду, сяду на добра коня, поеду
Во Китай-город гуляти.
Молодой своей женишечке подарков накупати.
- Я куплю своей женишечке подарок –
Славно, славно преотличное платье…
Затем снова – серебряное блюдо, земной поклон и т.д. Все подарки отвергает девушка. И, наконец:
Я куплю своей женишечке подарок –
Славну, славну, преотличную плетку!
Парень выхватил из-за опояски ременную плетку и здорово огрел предсельсовета. Она встала и обняла парня за шею. Он пел, прерывая куплет поцелуями:
-- Смотрите-ка, добрые люди,
Как жена меня, молодца, любит,
Трое-двое меня, молодца, целуют…
Потом играли в «кобылу». Девушек «подковывают» и опять лупят плеткой.
-- Видал, сероглазый, какие у нас девки дуры? – сказала Катя.
-- Хоть бы они спели!
-- Ей, братва, спойте!
-- Нотна девка, -- неопределенно отозвался палач-танцмейстер.
Девушки оглушительно запели.
Во переднем уголочке
Две ласточки,
Две касатые.
Они думу думали,
Они мысли мыслили.
За которого жалаю,
За того взамуж пойду.
Я за молодца жалаю
За удаленького,
За парня бравенького!
Протяжно дыхнула гармонь. Голоса смолкли. Пальцы пробежали по ладам. Развеселый ритм качнул избушку. Колени задвигались. Легкая женщина в коротком городском платье, в красном платке, поплыла, постукивая каблуками.
-- Учителька, -- зашептали гости.
Ее парень взвизгнул и пошел вприсядку. Мягкие бродни ухали, как мамонт, бегущий в тундре.
-- Параходские! – крикнул другой парень и вышел в круг.
-- Ну, и пойду! – вызвалась Катя.
Она стояла, подбоченившись, примеряясь к летящему ладу.
-- Хороший на мне фартук?
-- Очень даже великолепный.
-- Ну-ка кто кого?
-- Ладно, кто кого…
Катя плясала отчаянно, выкрикивая вдруг озорные частушки.
Парень одолевал. Пляс его был неутомимый и ровный, как взмахи весел. Вдруг с палатей спустился скрип и кашель. Старуха заныла:
-- Убираться пора, убираться пора, ох, пропаду на вас нет…
Гости хохотали, подвигаясь вперед и подпевали все нахальнее:
-- Милка моя,
От самово сердечка,
Ляжем милка на кровать,
Сделам человечка!
-- Сейчас карга выкуривать будет, -- сказал прежний рыбак.
Тимофей не понял, но из-за ситцевой занавески действительно пошел густой смолистый дым. Старуха разожгла самовар, набросала в него еловых шишек и убрала трубу.
-- Лучше, гнуса не будет, -- зубоскалил плясун.
-- Охальники! -- изводилась карга.
Катя выскочила из круга, задыхаясь.
Пойдем, сероглазый, -- сейчас лапаться начнут.
Они вышли, сопровождаемые воплями победителей. Ночь была темна.
-- Хорошо я пляшу?
-- Да…
Огненный звон наполнил их сознание. Думать было нельзя. Они поцеловались.
Комары всех сортов напали на них, почуяв сладкий запах крови.
-- Бежим, -- шепнула Катя.
Они запрыгали по назему вниз. Рыбак, клепавший лодку, побитую бурей, взял гривенник, чтобы перевезти их в обласке ²⁸. На «Севере» спали. Тимофей вошел в свою каюту и поморщился от душного запаха завхоза. Иллюминаторы были задраены. Тимофей зажег электрическую лампочку, открыл иллюминатор. Крылатые серые хлопья таежного гнуса полетели из черной дыры. Тимофей понял ошибку, погасил свет и захлопнул круглое стекло; но тонкий комариный гуд не давал ему спать. Тимофей вышел в коридор. Дверь Катиной каюты была приоткрыта. Катя лежала раздетая, в одной рубашке.
- Что заглядываешь, заходи, -- бестрепетно сказала Катя, гася окурок…
Катя говорила: «Тоска на меня в это лето нашла, вот обязательно, думаю, закручу с кем-нибудь»… -- «И я», ответил Тимофей, также тихо. – «У меня тоже тоска, черт бы ее побрал. Я тебе благодарен»…
Утром пришел пароход «Кооператор». На реке в лодке, гребла от «Кооператора» к берегу, председательница сельсовета. Тимофей узнал ее, женщина тоже поклонилась. Лицо ее, как говорят, «сияло».
-- Что за счастье у тебя? – крикнула, разумеется, Катя.
-- Мотри-ка! – показала она на ящик. – Радио пришло. Вы, вот, пароходские, завсегда смотрите на нас, точно на в а н ь к о в каких диких. А мы радио выписали.
-- Нет, -- сказал Тимофей. – Просто интересно…Вот песни у вас действительно… старинные. Когда мужики вас втрое больше лупили.
Женщина бросила грести и ответила тише:
-- Песни наши для баб зазорные, да. Инструктор говорил. А других не знаем, так и веселье идет. Говорят, по радио песни поют. Ну, другим и научимся.
Лодка ее подошла к рулю «Севера». Женщина снова взяла весла.
-- Научат ее романцам разным, -- пробормотала Катя. – У нас радио в клубе хрипит… Так затянет какая там бляха тонким голосом про сердце, про любовь, но все господское. Лучше уж старые, понимаем, песни, да наши…
Команда собралась на баке: выбирали канат с «Кооператора». Огромный, почти морской пароход, сдернул «чугунок» экспедиции с мели и потащил на буксире вниз, где у высокого берега остались три лихтера ²⁹. Форштевень ³⁰ «Севера» рассекал воду с непривычной скоростью. Пенные клочья мчались мимо, как железнодорожный щебень.
-- Вот шурует, так шурует! – восторженно сказал Чепрунов.
С «Кооператора» раздался короткий повелительный гудок и буксир упал в воду. Снова затренькала глуховато паровая машина »Севера», но «Кооператор» и с тремя лихтерами обошел его на третьем плесе.
Впереди были низкие песчаные острова и ясный водный горизонт, поднявшийся над берегами до самого неба. В небе огромные стальные тучи, северная июльская хмарь.
Дни проходили под давлением этой серой, пасмурной пустыни. Они напоминали унылое и страстное в своей тоске полотно Левитана³¹, увеличенное гигантским волшебным фонарем Енисея. Лунная бель Туруханского монастыря взошла на горизонте.
Примечания
¹ Норденшельд Нильс Адольф Эрик (1832-1901), шведский исследователь Арктики.
² Капитан Иосиф Виггинс (1832-1905) – английский капитан, который в 1874-1894 годах совершил более 10 благополучных плаваний через Карское море в восточном направлении. Заходил в устье Оби и Енисея.
³ Ньюкастл -- город в Англии.
⁴ Госпар – Государственное пароходство.
⁵ спардек – верхняя легкая палуба.
⁶ плашкоут -- несамоходное грузовое судно или паром.
⁷ афелий - наиболее удаленное положение Земли от Солнца.
⁸ фальшборт – продолжение борта выше открытой верхней палубы.
⁹ морской узел – единица скорости судна равная одной морской миле в час.
¹⁰ дебаркадер – плавучая пристань или судно для высадки пассажиров.
¹¹ фут -- 0,3048 м
¹² ют -- кормовая часть верхней палубы.
¹³ бак – носовая часть верхней палубы.
¹⁴ лотовый – матрос, измеряющий глубину фарватера под килем корабля на ходу.
¹⁵ Фритьоф Нансен (1861-1930) -- знаменитый норвежский полярный исследователь и гуманист. Лауреат Нобелевской премии.
¹⁶ колдоговор – коллективный договор, основной закон на предприятии; документ отражающий кадровый учет и управление персоналом.
¹⁷ РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция.
¹⁸ шиве́ра — мелководный участок реки с подводными и выступающими из воды камнями и быстрым течением.
¹⁹ пимы -- валенки.
²⁰ кодак – фотоаппарат.
²¹ таскылы Саян – горные хребты, связанные с Саянами.
²² бродни - высокие сапоги для болота.
²³ Гепею – искаженное ГПУ ( Государственное политическое управление).
²⁴ джимми – обувь, видимо, купленная на иностранных пароходах.
²⁵ пауты- слепни.
²⁶ Генри – О.Генри (1862-1910) – американский писатель.
²⁷ шалка -- платок,шаль.
²⁸ обласка – лодка с закругленным дном.
²⁹ лихтер – несамоходное морское судно с плоским дном. Используется для разгрузки или догрузки судов на мелководных пристанях.
³⁰ форштевень -- брус, образующий носовую оконечность судна.
³¹ И.И.Левитан (1860-1900) – выдающийся русский художник-пейзажист.
4. ГОРОД, ГДЕ ДОЖДЬ ЛИЛ СОРОК ДНЕЙ И СОРОК
НОЧЕЙ, А ВОДУ ПОКУПАЛИ ЗАГРАНИЦЕЙ.
(глава из книги «Выход к морю», Зап.-Сиб. изд., Новосибирск, 1935г.)
-- Возьмем рогульки, -- предложил Мюрат.
Я пошел за ним, как иностранец, плохо понимающий язык страны, в которой он высадился.
Из тумана отслоилась дюжина китайцев.
-- Моя, моя капитана! – бросились к нам кули-каули.
Через секунду двое овладели нашими чемоданами, и драка мгновенно прекратилась, остальные отбежали к другим пассажирам. Таково древнее право в борьбе за случай донести багаж куда угодно, хоть через весь город.
Китайцы-каули быстро уложили вещи на свои стандартные деревянные носилки: две вертикальных жерди в рост человека, упор для клади и лямки. Верхние края жердей торчат над головой идущего, отсюда – «рогульки», коллективное изобретение трудящихся Китая. Простота этого несложного приспособления гениальна: стоит носильщику присесть, и нижние концы рогулек опускаются на землю, он может отдохнуть или легко вывернуться, прислонить рогульки к стене, снять поклажу. Наш грузчик не может положить на спину тяжелый предмет сам, каули всегда управляется один. На улицах Владивостока я почти не встречал экипажей и ломовиков. По Ленинской бежал трамвай. Рогульки несли груз. Рядом с нами шел носильщик, нагруженный базарной всячиной, добытой домашней хозяйкой, тут же шествовавшей за своим китайцем, как тень. Другой медленно шагал посредине мостовой с громадной ржавой шестерней страшного веса, рябившей зубьями из-за худых плеч.
Владивостокская Ленинская улица, вероятно, лучшая улица к востоку от Урала. Она вымощена брусчаткой, тротуары залиты асфальтом. Асфальтовые тротуары прерываются каменными ступеньками, улица бежит вверх, напоминая московскую Тверскую (теперь ул. М. Горького).
Улица идет сплошными каменными кварталами, дома с фигурками, колонками, карнизами выше и богаче не только иркутских, но, пожалуй, и московских старых купеческих домов. Среди них единственный новый дом – клуб водников. Его прямые бетонные линии, не искривленные окружающей выставкой архитектурных украшений, радуют, как лицо друга, неожиданно встретившегося на чужбине. Среди враждебного купеческого наследия резче ощущаешь его простой, близкий нам стиль. В клубе – смуглые матросы всех стран мира.
Каменные кварталы раздвигаются зелеными скверами. За железной оградой растут яблони, липы, сирень. Отсюда виден громадный владивостокский порт, гремящий лебедками кораблей.
Я знаю, что бухту Золотой Рог окружают горы, по местному «сопки», но их не видно. Ничего не видно дальше сотни шагов. Туман. Теплая сырость предбанника, в котором открыли дверь. Мелкий, мелкий дождик – «бус», как говорят в Сибири. Мга. Туман. Fog.
Моторист «кавасаки» (катер японского мореходного типа), нанявшийся «в Колыму», с которым я оказался в одном номере гостиницы, пока не нашлось другого, говорил, попыхивая табаком, еще более сгущавшим неприятную серую муть:
-- Наводнение, -- вскользь заметил второй собеседник. – Только не в водопроводе. Уборные из ведер промывают.
-- У нас, видите ли, как у Ноя. Потоп. Сорок суток идет дождь. Вы напрасно в кепке и полуботинках. Тут за ночь ничего не высушишь. Не сохнет. Вы в первый раз во Владивостоке? Здесь хорошо в августе и осенью. Солнце светит, пальто не нужно до декабря. А сейчас – самая скука.
Несколько дней, пока не целиком поглотила время подготовка к пути, я ходил по Владивостоку, впитывая морские испарения. Город напоминал приполярные норвежские города, какими они прошли передо мной во время коротких вылазок на берег с ледокола «Красин»: дождь, камень, зеленые сады, брусчатка. Только западная чистота норвежских городов еще не по плечу Владивостоку. Сырость порождала в нем не только ровный матовый блеск, как в Норвегии, но и крутую азиатскую грязь.
Азия, старая и новая, привлекает мой жадный взор на каждом шагу. Перед полярным путешествием первое дело – проверить: в порядке ли сапоги. В окне сапожника: миниатюрные остроносые туфельки для изуродованных ног китаянки. Все сапожники – китайцы. Хозяин обидно обругал заказчицу:
-- Такая мадама работать нет! (т.-е., не может).
Странно, что где-то в глухом застенке купезы или, может быть, консульства живут еще эти праздные ножки. Китайцы всегда работают. Их кормит самый неожиданный труд. В порту я видел старика-китайца с неподвижными глазами мумии, устремленными в серую, как туман, воду. Он работал несложным орудием: круглый бетонный обломок на длинном шпагате. С помощью такой удочки старик вылавливал из бухты остатки овощей, выброшенных из пароходных камбузов, щепки, всякие деревянные обломки, которые по одному откладывал в кучку.
Пеструю толпу торгашей и каули раздвигает рота китайской политшколы. Весело поднимается грудь. А рядом с этим ростком будущего – громадный дом, бывший притон – «миллионный дом», как его почему-то называют владивостокцы, -- теперь населенный китайскими кустарями. Дом изрезан узкими проходными дворами, мастерскими, лавочками. Я вошел в открытую дверь, в низкую комнату, привлеченный однообразной настойчивой мелодией. Музыка лилась без передышки, как вода из сломанного крана. Китаец водил смычком по струне инструмента, похожего на трубку гоголевского помещика. Другой сидел у стены, лицо к стене, и пел страшным голосом. Слушатели стояли.
В стране, где в засуху наводнение, где летом осень, а осенью лето, такая вывороченность коренилась всюду. В китайском театре я взял лучшее место – «шибако шанго» -- три рубля. Билетер-китаец в партер меня не пустил, а с почетом провел на самый верх, на галерку. В партере действительно сидели китайцы победнее, а на галерке расположились хозяйчики и купчики. Партер был занят столиками и стульями, как в любой столовке. Перед каждой галерочной скамьей возвышалась доска, покрытая скатертью, перед каждым зрителем стояла чашечка. Зрители усердно щелкали тыквенное семя. Толстый купец продавал его «уосемь рубля» фунт.
-- Суода, суода, -- кричит бой, разнося напитки.
Идет бойкая торговля.
-- Почем пампушка?
-- Два рубля. Лыбешка рубля.
«Пампушка» -- китайская булочка с двумя изюминками-глазами, вся величиной с кулак. «Рыбешка», -- тоже булочка, поменьше, в роде нашего весеннего «жаворонка».
Начинается действие. Торговля идет по-прежнему. Не менее оглушительный барабан аккомпанирует представлению. Пьеса тянется несчетные часы. Вся крем-сода выпита, пампушки и рыбешки съедены, публика начинает слушать. Я сидел, сидел, прочитал книгу, но так и не дождался конца диалога между двумя почтенными мандаринами.
Выход в море откладывался на неделю. Корабли колымского рейса задерживались из-за погрузки. Был у Мюрата недостаток. Со всеми он был знаком, все у него друзья, со всем владивостокским начальством на ты.
-- Ну, Сергей, распорядись, чтобы муку мне дали вовремя.
-- Как же, как же! Сделаю.
На самом деле ничего вовремя не делалось, с друзьями-волокитчиками следовало поступать вовсе не «по-дружески».
Полярная навигация на востоке коротка – в ледовитые годы не больше двух месяцев; она требует большой точности в использовании сроков. Капитаны Миловзоров и Сергиевский, назначенные в колымский рейс, настаивали на скорейшем выходе в море. К этому побуждали их особенности рейса. Море к востоку от Колымы, через которое предстояло пробиваться в ее устье, отличается большой ледовитостью. В то же время это самое южное из наших полярных морей. Крайняя северная точка колымских рейсов – мыс Шелагский – лежит на одной широте (70о) с Югорским шаром, самым южным путем Карских экспедиций. У чукотских берегов обычно уже в первой половине июля протаивает береговая полынья, пользуясь которой можно пройти до Колымы. Узкая полынья под берегом образуется даже в самые ледовитые годы. Этим объясняется, что ни одно судно, зимовавшее у чукотских берегов, не было задержано на второй год, а всегда получало возможность выйти из Ледовитого моря через Берингов пролив.
Шхуна экспедиции Амундсена «Мод» вышла в 1920 г. с зимовки у острова Айона, находящегося в 300 километрах к востоку от Колымы, 7 июля, а в конце июля благополучно пришла в Ном (Аляска). В том же году «Мод» отправилась обратно, но смогла пройти всего 110 километров от мыса Дежнева и принуждена была встать на зимовку у мыса «Сердце-камень» уже 27 августа. «Дела со льдом обстояли хуже, чем когда-либо» -- писал о 1920 годе начальник экспедиции, известный норвежский ученый Г.У.Свердруп. Подобные случаи не раз повторялись и с нашими судами, зимовавшими в Чукотском море. Оказалось, что состояние льда у берега, в неблагоприятные годы, когда в Чукотском море преобладают северо-западные ветры, часто бывает лучше в начале навигации и ухудшается к концу лета, в противоположность Карскому морю.
Дальневосточные полярники хорошо знали особенности Чукотского и Восточно-сибирского морей. Капитан Миловзоров добился выдающихся успехов, применяя ранний выход в полярное плавание. В 1927 году капитан Миловзоров, войдя в Ледовитое море в начале июля, достиг Лены, совершив первый торговый рейс к ее устью, и благополучно вернулся обратно. В 1928 году, очень ледовитом, Миловзоров на «Ставрополе» успешно выполнил колымский рейс, хотя все остальные суда зазимовали, в том числе и американская шхуна «Элизиф», зазимовавшая у мыса Северного, не достигнув Колымы. В 1929 году Миловзоров зазимовал у мыса Северного, на обратном пути из Колымы, только потому, что задержался с разгрузкой на реке.
-- Ну, пойдем теперь в Совторгфлот, -- сказал Мюрат. – Нас приглашают. Беда.
-- Что случилось?
-- Беда-Беденко, заместитель заведующего Владивостокским Совторгфлотом. Заведующий сейчас разъезжает. Хотят заставить подписать такой договор.
Мюрат передал мне краткое содержание этого длинного документа. Главное в нем – очень высокий фрахт, около 300 руб. за тонну, и обязательство в случае зимовки принять все зимовочные расходы за счет фрахтователя. Последнее представлялось особенно несправедливым: ведь зимовки случались вследствие того, что Северный морской путь к устьям якутских рек не был оборудован.
Больше всего для колымских рейсов были необходимы специальные полярные суда. Мощные ледоколы не могут применяться в Чукотском море с таким же успехом, как в Карском. Плаванье в береговой полынье стало основным методом колымских рейсов. Поэтому требовались небольшие прочные суда специальной конструкции. Тип этих судов был выработан специальной комиссией, возглавлявшейся Н. И. Евгеновым. На приобретение таких судов Совет труда и обороны отпустил средства в иностранной валюте. Однако, Совторгфлот не только не приобрел полярных судов, но и вообще не истратил ни копейки из отпущенной суммы в течение трех лет, пока валюта не была у него изъята.
-- Кто в этом виноват?
Беда-Беденко, плотный черноволосый черноморец, пожимает плечами.
-- «Отдаленность края и канцелярские проволочки представляли все шансы скрывать свои злоупотребления», -- негромко цитирует Мюрат из какой-то книги о древних дальневосточных делах. – Старые порядочки еще не изжиты.
На восточно-сибирском научно-исследовательском съезде Мюрат говорил мне, что для полярной кампании 1931 года Совторгфлот должен приобрести в Японии два ледокольных парохода (японцы построили их для зимних рейсов на Сахалин). Действительность принесла разочарование. Никаких новых ледокольных пароходов во Владивостоке не было. Правда, Беда-Беденко продолжал уверять, что японские ледоколы будут приобретены в ближайшем месяце, но каждый раз, после этих уверений, я замечал на лицах дальневосточных полярников откровенные улыбки. Улыбки были справедливы: постановление правительства было выполнено только в 1933 г. постройкой парохода «Лена»¹.
-- Нет, мы уж опять пойдем на своих «балалайках», -- сказал капитан Миловзоров.
На груди капитана краснел орден Красного знамени, полученный им за поход к Лене, первый орден, выданный советским правительством за победу на Северном морском пути. Капитан Миловзоров пять раз ходил в Колыму, побывал в бухте Тикси у Лены, высадил первую советскую колонию на остров Врангеля, поставил советский флаг на острове Геральда. Все походы он совершил на двух старых судах – на «Колыме» и на «Ставрополе», которые с 1911 года были предназначены для полярных рейсов еще Доброфлотом. Н. И. Евгенов говорил по поводу этих судов, что они отнюдь не были лучшими и наиболее прочными, как того требовали условия полярных рейсов, а «скорее наоборот», намекая на несложный купеческий расчет: потонут – не жалко. Однако, капитаны упорно не хотели тонуть. Изучив свое ремесло с тонкостью цирковых фокусников, они научились пролезать в такие щели между берегом и громадными океанскими «стамухами» ², где не удалось бы пройти ледоколу без риска сесть на мель.
-- Мы давно говорим, что эту балалайку когда-нибудь раздавит, -- прибавил Миловзоров. «Балалайкой» он называл старую, давно знакомую ему «Колыму».
Лицо капитана с мягкими русскими чертами освещалось ясными глазами и улыбкой, под холеными, без единой сединки, подкрашенными усами. Одет он был в черный форменный костюм с чистейшим крахмальным воротничком и черным галстуком. На вид капитану никак нельзя было дать его шестидесяти лет. Когда улыбка исчезала, углы рта опускались стариковскими складками, выступала энергичная ложбинка на бритом подбородке, голос по-морскому грубел, капитан требовал, и видно было, что с ним считались, привыкли слушаться, хотя и недолюбливали.
Рядом сидел капитан Сергиевский в свитере, в брезентовом плаще, в сапогах. Энергичное бритое лицо его было спокойно. Он почти не вмешивался в разговор.
В прошлом 1930 году капитан Сергиевский в первый раз самостоятельно ходил в Нижне-Колымск на «Колыме» и действительно едва не потонул. На пути в Колыму, у острова Айона, пароход получил пробоину от столкновения со льдом. Капитан Сергиевский выбросился на мель. Благодаря дружной ударной работе всего экипажа «Колымы» пробоину удалось заделать и, с помощью шхуны «Кориза», принадлежавшей нашему американскому контрагенту Олафу Свенсену, сняться с мели. Капитан Сергиевский выполнил рейс и вернулся обратно, выкачивая из трюма воду с помощью всех насосов и керосиновой бочки, к которой ударники приспособили самодельный клапан. Бочку опускали в трюм на лебедке и ежеминутно вытаскивали полную воды на палубу. Так пароход шел в осенние штормы до самого Владивостока с грузом и пассажирами, в том числе женщинами и детьми, как всегда случается в колымских рейсах. Теперь капитан Сергиевский снова должен был пойти на «Колыме», ремонтировавшейся в течение года. Капитан Миловзоров шел на «Лейтенанте Шмидте», небольшом грузовичке, еще менее приспособленном для льдов, чем «Ставрополь» и «Колыма», у которых были несколько укреплены носовые части их корпусов.
Оба капитана настаивали на приобретении специальных судов для полярных рейсов, но были готовы идти на чем угодно.
-- Не в первый раз.
Мюрат подписал договор, чтобы не задерживать рейсы, заявив, что с договором не согласен.
-- Только бы поскорее шевелились там, в порту.
-- Вы были в Карском море? – обратился ко мне капитан Миловзоров. – Там совсем другой лед, вот увидите: там теплое течение, у нас холодное. Наш лед прочный, как кирпич.
Я знал, что все исследователи, побывавшие в Чукотском море, отмечали необыкновенно мощный характер его льдов: но в словах капитана о льдах Карского и Чукотского морей я легко угадывал скрытую мысль, давнишнюю обиду дальневосточников. В самом деле, каким вниманием, какой гордостью Советского Союза окружается всегда каждый поход на Землю Франца Иосифа или в Карское море. В худшем случае, о них всегда появляются подробные сообщения в газетах: но кто знает о колымских рейсах? Кто знает об ежегодных походах на слабых грузовиках в трудных ледовых условиях, о зимовках, о безымянных могилах на мысе Северном? Название этого знаменитого мыса иногда промелькнет в печати, причем даже такой высококвалифицированный орган, как «Фронт науки и техники», поместит его в устье Лены, хотя на самом деле он находится на Чукотском побережье, против острова Врангеля. Словом, обида старого капитана не была лишена основания.
Мы вышли из конторы.
-- Павел Георгиевич, -- попросил я, -- зайдемте, поговорим.
-- Нет, -- качнул головой капитан, -- я тороплюсь, мне воду надо набирать.
-- Да успеете вы воду.
-- Что вы! У нас на воду очередь. Вон, видите, «Литке» таскают по рейду. Он и качает.
Ледорез «Литке» ³, прославившийся арктическими походами, был назван так в честь графа Ф. Литке, известного путешественника, но и не менее известного противника Северного морского пути, -- название, вряд ли подходящее для полярного судна. Теперь «Литке» исполнял обидную для такого красавца службу: маленький буксир водил его по рейду в качестве водоналивной баржи. Дождь не переставал; но оказалось, что в этом водянистом Владивостоке больше всего не хватало воды!
-- У нас, как заграничный рейс, -- рассказывал Миловзоров, -- так обязательно просят: возьмите в обратный путь побольше пресной. Однажды пришел японец с водяным балластом. В Китае, в реке, что ли, налился. К нему все портовые власти кинулись: «Продайте!». Тот говорит: «Иена за тонну». «Что вы, - отвечают, -- такую цену назначаете?». «Ну, не хотите, не надо». Так ведь, сукин сын, взял и вылил в море!
Во Владивостоке сооружался водопровод на реке Седанке. Предприятие называлось Седанстрой. На Седанстрое я нашел многолюдную контору, но работы на реке почти не велись. Только в следующем 1932 году, опять-таки особым постановлением СТО, это важное для города и порта сооружение было отнесено к ударным стройкам.
Мы спустились к порту, шагая по трамвайным рельсам, чтобы не завязнуть в грязи. Так мы вышли на великолепную причальную линию. Набережная была сложена из ровных каменных глыб. Большие склады с крытыми платформами шли вдоль берега. Два новых советских грузовика «Каширстрой» и «Свирьстрой», тысяч по десять тонн, разгружали свои необъятные железные чрева. Дальше стояло несколько японских «мару», грузивших маньчжурские бобы. Один из советских пароходов назывался «Томск». Вспомнились «Ставрополь», «Симбирск», «Астрахань» -- целый флот назывался именами городов. Это было наследство Доброфлота. При царе дальневосточный торговый флот сооружался на «добровольные пожертвования». Поэтому пароходы назывались в честь тех городов, тузы которых давали деньги.
-- Вот и наш ледокол, -- капитан показал на «Лейтенанта Шмидта». – Этот не доброфлотский, из Ленинграда. Во время войны он был забран у немцев. Никто не знает его прежнего названия. Хороший грузовичок.
«Лейтенант Шмидт» грузил в передний трюм толстые лиственничные балки. Металлические трубчатые стрелы, выкрашенные охрой, шевелились, как пальцы.
-- Это распоры для льда, -- кивнул капитан в сторону балок.
Группа матросов шла мимо, один сказал, глянув на погрузку:
-- «Лейтенант Шмидт» нынче колмует.
Видно было, что колымские рейсы вошли в быт, идут издавна, раз в порту сложилось такое словцо. В 1911 году, 20 лет назад, на пароходике «Колыма», первый раз ходившим с грузом в устье реки Колымы, ставились такие же деревянные крепления для защиты ото льда.
-- Что же, помогает?
-- Как сказать? – улыбнулся капитан. – Инженеры говорят по-разному. Если, говорят, удар придется как раз под балку – еще хуже. Можно порвать лист.
-- Зачем же ставить?
-- Все-таки. Ну, если случится зимовка, например, то из этих лесин можно дров напилить с куб.
Дальновидную хитрость этой дальневосточной дровяной тактики я вполне понял лишь через несколько месяцев на опыте.
Деревянные поперечные распорины из тяжелых свежих лиственничных бревен ставились в два яруса: на 10-11-футовой осадке (с расчетом на обратный рейс, когда пароход будет почти не загружен) и около грузовой ватерлинии, т. е. на 9-10 футов выше. Концы поперечных распорин упирались в толстые продольные брусья, пригнанные к кромкам шпангоутов. Брусья шли параллельно стрингерам, т.е. металлическим креплениям, рассчитанным, видимо, на льды Финского залива, где плавал «Лейтенант Шмидт».
Грузовик был не плох, могло быть хуже, но приспособление его для полярного рейса требовало больших усилий. В две недели надо было сделать значительный ремонт судна, оборудовать помещения для пассажиров, для лазарета и т.п. На «Лейтенанте Шмидте» не было многих самых нужных предметов, например, брандспойта, необходимого в полярном море для перекачки пресной воды со льда. Склад так называемого «Отдела снабжения» клялся, что у него ничего нет. Брандспойт достали по знакомству с ледокола «Давыдов». К тому же груз поступал совершенно беспорядочно. Капитан ворчал, вспоминая молодые годы.
-- Когда грузили корабль, старший помощник распоряжался: дайте муку, дайте мануфактуру, дайте керосин. Склад не имел права дать груз без предписания судна. А теперь привезут с берега – что, куда, какого объема? Как же здесь составишь план погрузки?
В трюм грузили бочки с солониной, составлявшей основной продукт зимовочного запаса. Солонина в зимовочном запасе означала неизбежную цингу. Во Владивостоке, двадцать лет снаряжавшем полярные экспедиции, не могли этого не знать.
Не говоря о специальных витаминизированных консервах, в зимовочном запасе не было никаких противоцинготных продуктов. Не было даже луку. Во Владивостоке ни за какие деньги нельзя было достать ни одной луковицы даже у китайских торгашей, которые «из-под земли» доставали дорогие заграничные фрукты. О плановом же снабжении полярных рейсов никто не думал: «Наша хата с краю».
-- Вот вы, кстати, напомнили насчет цинги, -- заговорил капитан. – Константин Васильевич, -- обратился он к лекпому. – Вы пробовали лимонный сок и клюквенный экстракт?
Лекпом Ковалевский, подвижный, маленький, тонкий, с белой седой головой, в белом форменном кителе подскочил к огромной бутыли в плетеном футляре, мазнул с пробки на чистейший докторский пальчик каплю жидкости и вдруг взвыл, замахал рукой, скрылся в своей каюте-лазарете, крича тончайшим тенорком:
-- Соды! Соды!
В своем официальном отчете капитан изложил это событие следующим образом: «По небрежности склада снабжения при осмотре качества продуктов для пробы, предъявлены были приготовленные в рейс для зимовки две стеклянные бутыли – одна как клюквенный экстракт, а другая как лимонная кислота, которые в действительности оказались – одна бутыль с серной кислотой, а другая с карболовой кислотой».
Тогда, по просьбе руководства экспедиции, была организована особая комиссия по делам рейса. При веском ее содействии удалось получить немного свежих овощей для рейсового расходования. Вместе с несколькими коровами и свиньями, которые всегда берутся в полярные рейсы живьем, полученные запасы вполне обеспечивали здоровое питание во время рейса, но не во время зимовки.
Зимовочное снабжение удалось пополнить только мясными консервами и керосиновыми лампами, добытыми путем самых свирепых угроз. Впрочем, чиновники ухитрились провести даже страшную для них комиссию, в расчете на то, что тайны колымских рейсов всегда оставались покрытыми «мраком неизвестности».
_______
30/VI (из дневника). Во Владивостоке событие: показалось солнце. Жители говорят об этом явлении так же, как лондонцы: Sunshine! Sunshine! Город сразу высох, стал еще красивее, ярче. Солнце вздымается невиданно высоко над моей головой. Лучи его в полдень падают почти отвесно, каких-нибудь 20 градусов отделяют его от зенита. Туман поднялся, открыл зеленые горы, голубое море. Завтра я буду среди этого голубого.
Город кажется особенным, необычным, потому что рядом бухты, заливы, веселые передовые отряды моря, соединенного со всеми путями Великого океана. Большие черные пароходы заходят в Золотой Рог. На их трубах цветные полосы, на бортах надписи на шести языках.
На Ленинской встретился Ландин. Несмотря на солнечное событие, его бритое лицо потемнело от злости, было мрачнее тучи, как говорится.
-- Уф, уф! – отдувался он, -- японские моторы прислали без гребных винтов. Кто их там принимал? Насилу достал из Дальзавода.
Задание экспедиции ВОГВФ 4, во главе которой стоял т. Ландин: пройти на катерах – «кавасаки» -- от мыса Дежнева до Колымы, а на следующий год от Колымы до Лены, сделав опись и промер многочисленных прибрежных лагун, в летнее время всегда свободных ото льда, а потому пригодных в качестве посадочных площадок для гидросамолетов. В 1930 г. экспедиция Ландина работала на побережьи Камчатки, оставался труднейший полярный участок намечающегося будущего воздушного пути – огромного кольца, охватывающего Лену, Ледовитое море и побережье Дальнего Востока.
До мыса Дежнева экспедиция Ландина должна была идти на «Лейтенанте Шмидте». Поэтому, как владивостокцы о погоде, мы заговорили о делах колымского рейса. Было ясно, что вся система полярных рейсов на востоке никуда не годилась. Вернее, никакой системы не было. Совторгфлот делал вид, что колымские рейсы ежегодно ему навязывает Якутская республика, что правильная организация этого дела вовсе не входит в его обязанности. Кроме великолепных кадров полярных моряков, выработавшихся в борьбе со льдами, за советским Дальним Востоком не числилось серьезных достижений в области организации северного морского пути.
-- Весь Дальневосточный край в прорыве, -- говорил Ландин. – План выполняют только наполовину ⁵. Не может, не должен отставать такой важный для нас пограничный край!. Заметил, -- горячился он, не остыв еще от возни с гребными винтами. – Заметил, многие здесь новички, летуны, края своего не знают. Один авантюрист, жулик, классовый враг, назвался председателем несуществующего колхоза, года три получал деньги, вдобавок засудил коммунистов, пробовавших его разоблачить, потом скрылся.
Перед нами возник переулок парусиновых лавчонок. Мы шли на базар – барахолку – покупать стельки для сапог. Цены у китайцев круглые: булавка – «рубля», яблоко – 5 «рубля», стельки – 10. Какие-то азиатские джентльмены сидели на высоких ящиках, болтая ногами в ярко начищенных желтых полуботинках с толстыми резиновыми подошвами.
-- Ты думаешь, - кивнул Ландин, -- они так, дурака валяют? Они контрабандной обувью торгуют. Почем пара?
-- Дывести.
Унылый русский спекулянт приценивался к сапогам своего более удачливого китайского конкурента.
-- Налога мунога?
-- Мунога.
-- А сапога мунога?
-- Тыриста.
-- Сто рубля деньги?
-- Тыриста.
-- Зачем твоя, ходя, играй-играй?
«Играй-играй», значит – торговаться. Жаргон слышишь повсюду (иначе, мол, китайцы не поймут). С жаргоном ведется борьба, как с одним из проявлений шовинизма, но старое еще крепко гнездится за парусиной и фанерой базарных лавочек, за оградами обывательских особнячков.
Добыв войлочные стельки «десять рубля», мы разошлись, условившись встретиться вечером в гостинице «Версаль» (есть еще «Версали» в СССР).
Мы идем в море вместе. По идее Мюрата я должен представлять на «Лейтенанте Шмидте» несуществующую полномочную комиссию ЯАССР, в чем он и выдал мне удостоверение. Да и «Колыма» набита битком. Капитан Миловзоров предложил мне место в своей каюте, состоящей из двух отделений. Я очень благодарен ему. Миловзоров, по праву, может считаться одним из лучших и опытнейших наших полярников. В первый раз в колымский рейс он ходил в 1914 г., зимовал в 1914-1915 г. у мыса Северного, в 1923 г. сделал первый советский рейс в Нижнеколымск, занятый еще белогвардейцами, привез туда отряд красноармейцев и груз для Колымы, в 1924 г. не дошел до Колымы из-за непроходимых льдов у мыса Большого Баранова («Мод» экспедиции Амундсена также безуспешно пыталась пройти этот же район) и зазимовал, в 1926 г. высадил первую советскую колонию на о. Врангеля и поднял советский флаг на о. Геральде, в 1927 г. ходил к устью Лены, в 1928 г. в Колыму, в 1929 г., на обратном пути из Колымы, зазимовал у мыса Северного и, после воспаления легких, улетел на аэроплане в Америку. Ему есть что порассказать, есть о чем его расспросить. В то же время относятся к нему здесь очень странно, если не сказать больше. «Вы, -- говорили мне, -- не ходите с Миловзоровым. Он спец по зимовкам». Это явная клевета и попытка переложить ответственность за зимовки, т.-е. за неправильную организацию полярных рейсов, «с больной головы на здоровую». Самого беглого ознакомления с фактами достаточно, чтобы опровергнуть эту «версию»: когда зимовал Миловзоров, другие суда, шедшие тем же путем, тоже зимовали («Мод», в 1924 г., «Нанук» в 1929 г.), но в 1928 г., когда остальные суда зимовали («Колыма» и «Элизиф»), Миловзоров выполнил рейс без зимовки.
Я взял «рогульки» и перенес свои вещи на «Лейтенанта Шмидта». Капитанская каюта на верхней палубе. В капитанской «столовой» (здесь господствует терминология старшего уборщика Дрозда), у левой переборки, нашелся для меня отдельный узкий диван. Это и есть мое место. Отлично! Каюта светлая, со множеством окон и двумя дверями – на палубу, и на трап, ведущий в кают-компанию. В центре – стол для работы, несколько морских шкафов, изящная медная полка, маскирующая паровое отопление, -- немецкая работа.
Пока китаец засовывал под мой диван чемоданы, в каюте шел драматический диалог все на ту же злободневную тему.
Капитан. – Я уверен, что у нас больше половины нет!
Помощник. – Пользуются случаем дать.собачье. (Потом злорадно и радостно о завскладом) Посадили, таки, сукина сына на 10 суток! Он отказал что-то, что на складе было. Тот взял и приказал.
Капитан. – Они немного подтянут там. Нахалы стали. Беда-Беденко вздумал заступиться. «А вас, -- говорит, -- на 11 суток» (смех) .В Петропавловске лучше (это ко мне). Если нет, честно говорят, что нет, а если есть – дают. А во Владивостоке есть, но если видят, что можно не дать, не дадут. (Пауза).
Помощник (возвращаясь к прежнему разговору). – Так, сколько же просить, Павел Георгиевич?
Капитан. – Двести.
Помощник. – Лучше 250. Всегда ведь урежут.
Капитан. – Это верно. (ко мне). В прошлом году приходит в склад инженер: «Дайте 150 метров проводу пустить конвейер». Дает 100. Тот назад: «Я вам мальчик что ли бегать? Конвейер не пойдет!». «Нет, идите, -- говорит, -- к управляющему». Пока к нему все капитаны не придут, не начнут ругаться, ничего не получишь!
«Зачем твоя «играй-играй», -- вспомнил я барахолку. Ну, слава Аллаху, доигрался.
Я пошел «прощаться» с Владивостоком. Ведь, может быть, ни я, ни «Лейтенант Шмидт» не вернемся сюда осенью. Как он хорош, этот город! Море окружает его голубыми полями. Это не лен цветет в азиатской степи, это дорога на весь мир. Волны пенятся легкими барашками. Тихий океан протянул сюда клочки своей огромной шкуры. Всюду бегут корабли.
Я не скоро нашел знакомый янтарный блеск нового теса. Множество мелких рыболовных судов стояли на берегу. Они строились здесь же, под открытым небом. Китаец-перевозчик ловко и легко греб кормовым веслом. По зеркальной безграничности моря плыли все те же мои мысли о новых железных путях, крепящих связи Советского Союза с этим морем, о верфях, о ледокольных судах, о большом гуле технического вооружения, который музыкальнее всяких стихов.
Вечером мы отдали дань обычаю в какой-то загородке ресторана «Золотой Рог». Иван Ландин, именуемый здесь «дядя Ваня!», хитро подмигнул мне, кивая на молодых своих спутников.
-- Ничего, здесь создается дружба.
«Золотой Рог» полон. Мелькают знакомые лица: этот едет в Олу, этот на Сахалин, этот на Камчатку. Здесь либо северяне, либо иностранцы. Ресторанный юг живет севером. Об этом Владивостоке хорошо писал Николай Титов.
«Сизый вечер запал глубоко
В дымных сопках Владивостока.
Диск тяжелый сонной луны
Прячут облачные валуны.
В этот час и глухой, и пряный
Просыпаются рестораны.
Поднимают свои смычки
Полутемные кабачки.
Эту накипь прошедших лет
Торопись оборвать, рассвет.
Торопись оборвать навсегда
Нарастающим гулом труда.
Гулом крепким, которым горд
Оживающий рано порт.
Гулом крепким, которым горд
Трубы вскинувший Дальзавод».
Мы уходим в раскаленную вином тьму 43-й параллели, испятнанную расплывчатыми фонарями, пахнущую морским туманом. Мы кричим что-то о кораблях, о самолетах, о японцах, о. луковицах. Мы грозим улице, наполненной сонными канцеляриями, и наша боевая дружба крепнет. Над морем бледнеет горизонт, бледнеют звезды, а может быть, маяки. Гудит черный «мару».
«Сумрак утренний недалек
Просыпается Владивосток».
_____________
1 и ю л я (из рейсового донесения капитана Миловзорова).
«Ночью всюду на палубе укладывался лесоматериал на случай зимовки. В 3 часа начата была погрузка пороха, которого было около десяти тонн, аммонала для подрывных работ во льду. С рассветом начата была погрузка спичек на спардечную палубу, которая к 7 час. 38 мин. Была закончена. С 8 часов команда начала крепление груза по-походному.
В 8 час. 30 мин. Была начата погрузка на палубу, при помощи плавучего крана, плавучих средств полярной экспедиции ВОГВФ, заключавшихся в двух моторных катерах типа увеличенного крытого кавасаки – «Уэлен» и «Лена». К 11 часам установка обоих кавасаки на носовую палубу была окончена. Плавучий кран оставался у борта в ожидании подъема трех кунгасов и двух моторных катеров типа крытых кавасаки, которые должны были быть поданы к борту Якутпредставительством для доставки в Нижнеколымск.
В 16 часов морагентством сообщено было, что предполагаемые к погрузке плавсредства не будут погружены вследствие их неготовности.
В 16 час. 30 мин. Начали погрузку судовых кунгасов на кормовую палубу, причем кунгасы были даны малого типа, грузоподъемностью около 8-10 тонн, сильно рассохшиеся, количеством три, причем третий кунгас дан был после усиленных хлопот в морагентстве.
Для обслуживания грузовых операций, помимо трех малых кунгасов, погружен был моторный катер №23, который вполне отвечал по силе и конструкции предстоящей работе во время рейса.
Учитывая наличие большого количества груза, подлежащего к выгрузке в трудных условиях открытого рейда с отдаленными стоянками судна, добился согласия о даче предписания о перемене малых кунгасов на большие в Петропавловске.
В 21 час окончили погрузку всех плавсредств и приступили к их креплению по-походному.».
«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Из-за истории с кунгасами мы потеряли еще один день. Незадолго перед этим в газете «Красное знамя» изображался «банкет», устроенный по поводу первого рейса парохода «Кречет». Не придумав ничего, чем еще отметить этот праздник, портовые власти вызвали ледокол и разъезжали на нем по своим владениям. «Кречет» ушел со следами самых крайних проявлений морской болезни, искусственно вызванной алкоголем. Через день «Кречет» прочно сидел на мели, недалеко от Владивостока. Теперь как раз «Кречет» вернулся и встал недалеко от «Лейтенанта Щмидта», имея крен градусов 15. Печальный и наглядный пример «Кречета» мы не без основания соединяли с нашими собственными печальными «плавсредствами». Пар нашей злобы подорвал все предохранители. «Усиленные хлопоты в морагентстве» означали длительную и соленую ругань, просьбы и угрозы, вмешательство горсовета и Особой комиссии. К счастью, капитан Миловзоров все-таки ухитрился уйти за четверть часа до конца суток, утвердив таким образом дату начала рейса на 1 июля. Ровно в 23 часа 45 мин. Боцман крикнул:
-- Чист якорь!
На «Лейтенанте Шмидте» погасли огни, кроме сигнальных, чтобы свет не мешал рулевым, звякнул судовой телеграф, и пароходик, накопивший на стоянке пар, бодро пошел вперед к проливу Восточный Босфор. В лицо ударил чистый ветер моря, сухопутные происшествия пропали, как сон, из памяти, моряки подали друг другу руки.
-- С отвалом.
Капитан дал прощальные гудки. Ночной рейд проснулся. Один за другим отвечали великанские голоса пароходов.
Вопли гудков долго гнались за кормой «Лейтенанта Шмидта». Они напоминали далекие солнечные отблески мокрых платков женщин, взмахивающих с опустевшего дебаркадера. Море. Ночь. У каждого на берегу, наверное, осталась дорогая. Моряки замолчали, задумались. Ведь они шли туда, откуда не все возвращаются.
___________
Примечания
¹ «Лена» - была переименована в «Челюскин».
² Льдины, сидящие на мели. Льды Чукотского моря становятся на мель, обычно на глубине 6-7 метров.
³ «Литке» работал раньше в Белом море, затем в Черном. Ледорез назывался сначала «Канада», потом «Третий Интернационал», наконец, «Литке».
⁴ ВОГВФ -- Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота.
⁵ Позднее Г. М. Крутов писал в журнале «Советская Азия» (книга 9-10, 1931 г.)
«Выполнение производственных программ 1931 г. не превысит по рыбе 59 проц., по углю – 58 проц. Решение правительства, ставящее на первое место превращение края в индустриально-экспортную базу, не выполнено. Темпы развития народного хозяйства и культуры недостаточны. Технико-материальная база решающих отраслей хозяйства крайне низка.
Основными причинами прорывов в народно-хозяйственном и культурном строительстве края являются: неумение работать по-новому в сложной обстановке; недостаток рабочих кадров, низкая квалификация их, преобладание сезонно навезенных рабочих; низкая технико-производственная вооруженность основных отраслей хозяйства; недостаточная механизация и слабое овладение оборудованием; отставание в развертывании промышленности стройматериалов и угледобычи, приводившее к простоям в других отраслях; …широкое применение центральными органами завоза в край изношенного и устарелого оборудования, наряду с общим недоснабжением края оборудованием; систематическое невыполнение центром планов снабжения края продовольствием и промтоварами; крайне тяжелые жилищные и бытовые условия как на новостройках, так и в промышленных и в промысловых районах, невыполнение центральными органами НКЗ ⁶, ВСНХ ⁷ и НКСнаба ⁸ ряда директив партии и правительства по краю.
Край нуждается в изучении, в освещении его нужд и богатства, в привлечении к нему внимания центра и глубокого интереса со стороны широких кругов хозяйственников, специалистов, молодежи».
⁶ НКЗ -- Народный комиссариат земледелия.
⁷ ВСНХ -- Высший совет народного хозяйства.
⁸ НКСнаб -- Народный комиссариат снабжения.
ГИБЕЛЬ «ЧУКОТКИ»
(Глава из книги «Выход к морю», Новосибирск: Зап.-Сиб. краев. изд., 1935.)
1
-- Малый вперед.
-- Малый назад.
-- Стопорить.
Прошел час, а не прошли и одной мили. Тяжелая работа.
«Лейтенант Шмидт» застрял во льдах. Посмотришь вперед – бело. Голос капитана гаснет.
-- Прямо, пожалуй. Налево не выйдет…
-- Прямо руль.
-- Нет, и так не выйдет…
Капитан, стоя на своем «балконе», как он называл -- «воронье гнездо», вполголоса материт лёд; но голос в арктической тишине хорошо слышен.
-- Лево на бо-орт!
-- Вон ту грязную пустить по борту.
-- Фигурчатая пусть вправо остается.
-- Эту, вон, козырьком, можно толкнуть. Белые скользкие чудища оживали от напора форштевня. Начались разные чудеса. В сумеречном свете полярной ночи отдаленные льдины, растянутые рефракцией, поднялись как горы. Казалось, мы были в плену, но пароход шел, и ледяные горы становились перед ним на колени.
Над материком заклубились упругие тучи, обильные и теплые, как на юге. Дул юго-западный ветер. Молния ударила в черный мыс. Теплый дождь зашумел по палубе. Вверху торжественно прокатился тугой гром.
Под громадной кроной туч вырастали большие белые грибы льдов. Гроза казалась таким же обманом, как призрачные белые горы. Льды под тёплым дождем плакали крокодиловыми слезами. По-видимому, дождь не причинил им никакого заметного ущерба.
В 3 ч. 30 м. выбрались в прибрежную прогалину около мыса Онман и, пройдя его, стали держаться параллельно берегу. Состояние льдов позволяло идти в расстоянии одной мили от берега, среди рассеянного тяжелого льда, быстро движущегося на юго-восток. Дальше в море была видна кромка сплошного неподвижного тяжелого льда.
Когда в Чукотском море дует юго-западный ветер – не верьте ему. Летние иллюзии только тень настоящего лета, долетающего сюда на крыльях ветра.
После восхода солнца подул норд-вест. Стало холодно и ясно. Едва заметное течение вдруг зашумело во льдах потоком. Встали на ледяной якорь. Ледяные поля взломались, лёд пошел густой массой, напоминая ледоход на могучей реке. Наш ледяной островок не выдержал напора и разлетелся на множество осколков.
Ветер быстро усилился.
«Сильные ветер и течение, -- писал капитан Миловзоров, -- производили смешанное движение льдов, чем не давали возможности управлять судном и в 9 часов заставили стать на ледяной якорь… По тем же обстоятельствам судно неоднократно срывало с якорей. Меняя места, к полудню постепенно продвинулись к мысу Ванкарем, на расстояние около трех миль и там встали под защитой группы льдин, стоящих на мели, на глубине 11 метров. За время этой стоянки, в продолжении около двух-трех часов наблюдалось очень сильное движение льдов на юго-восток под действием течения и ветра.
В 19ч. опасная передвижка льдов прекратилась, сейчас же снялся с якоря, с намерением обогнуть мыс Ванкарем и за ним выбраться в прибрежную прогалину для дальнейшего по ней следования. В 23 ч. 30 м. выбрался в прибрежную прогалину за Ванкарем и там стал продвигаться вдоль берега».
-- Этот ветер сквозной, -- говорил капитан Миловзоров, опуская на глаза темно-желтые очки от невыносимого сияния льдов и тугого потока норд-веста. -- Он дует вдоль всего берега. А южный, юго-западный – это местные ветры, так, поддувала. Вот еще юго-восточный сквозной. Если бы он как следует дунул, вы бы через день этих льдов и не увидели. Он отжимает льды от берега, а норд-вест, видите, как жмет.
Страшное движение ледяных полей, напоминало мне о «Чукотке» и «Колыме», затертых этими льдами. Я пошел в радиорубку, которая помещалась на верхней палубе, над машинным отделением. Радист сидел у своего стола и записывал в толстую тетрадь все, что слышал. Он принимал разговор радиостанций «Чукотки» и «Колымы».
-- «У нас очень тяжелое положение, следи все время, зови капитана к себе. Слушай, слушай меня, я пошел на палубу к капитану. Скорее, скорее зови капитана… У нас очень тяжелое положение, ну, следи за мной, следи, следи, следи все время. Пошел к капитану…»
«Передай капитану: нас уже выдавило изо льда, сильный крен.
Скажите, как ваше положение…
Крен 18 градусов.
-- «Все время, все время следи беспрерывно. Ведите за нами все время слуховое наблюдение, положение очень тяжелое, смотрите за нами. Ну, больше пока не отвечай. Слушай меня, слушай меня.
Капитану, если можете, если можете подойти, подойти, подойти ближе -- »
Когда мы стояли во льдах у мыса Ванкарем, на пароход пришел заведующий факторией АКО, расположенной на этом мысе, и чукчи – чай пить. Фактория мыса Ванкарем была единственной факторией, которую снабдила «Чукотка».
Капитан Фонарев кратко сообщил: «В полдень северо-западным штормом выжало на лед, имеем повреждения корпуса, поломан руль».
-- Я говорил ему не ходить во вторую полынью! – с торжеством и с улыбкой сказал капитан Миловзоров.
Этой улыбки ему долго не могли простить; но ход мыслей старого капитана был мне ясен. Двадцать лет он доказывал, что для полярных рейсов нужны крепкие суда, в особенности прочными должны быть руль и винт. Каждый из капитанов хотел, чтобы это было наглядно подтверждено, чтобы на условия полярной навигации на востоке обратили внимание, но каждый, разумеется хотел, чтобы это случилось не с его судном, а с другим. Неудивительно, что капитан обрадовался. О «второй полынье» он рассказал:
-- Видите эту груду самых больших льдин, идущих параллельно берегу? Это настоящие сторожа. Они прочно стоят на мели, препятствуя нажиму льдов на берег.
Между такими сторожами и берегом можно плыть. Или, когда лёд позволяет надо идти в море, далеко от берега. В начале навигации лёд часто отрывает с внешней стороны неподвижных льдин, когда береговая полынья еще не образовалась. Это и есть вторая полынья, самая опасная. Лёд в ней, при первом нажиме обязательно закроется, и, встречая препятствие со стороны льдин, сидящих на мели, будет сжиматься. В такое сжатие и попала «Чукотка».
Радиосвязь на некоторое время прервалась. У радиста «Чукотки» от сильного крена судна опрокинулись аккумуляторы.
-- Ну, нас кверху не выжмет. Нас -- книзу, книзу, -- сказал со своей обычной усмешкой капитан.
А потом прибавил, обращаясь к ревизору:
-- Где у нас сумки? (вещевые мешки на случай гибели судна и пешего хода по льду). Готовы?
Ничего у нас не готово. Сумки искали и вытаскивали из разных углов весь день. «Победа дается тому, у кого все в порядке», вспомнил я слова Амундсена. Наша стенная газета начала компанию за порядок.
Перед нами поднимался островок Кыркарпко – груда рыжих камней. Льдины нагромоздились вокруг него, как горы. Нигде не было видно прохода для судна.
«Лейтенант Шмидт» шел, с разбега расталкивая льдины, медленно преодолевая упорное сопротивление сверкающей стихии…
…Ночью капитан Фонарев опять прислал радиограмму, которая немного нас успокоила.
«Вечером двадцать один час находился легком сжатии. Со льдины сползли. Поддерживайте с нами связь».
Павел Георгиевич рассказал:
-- Кто раз испытал сжатие, тот второй раз во льды не пойдет… Меня вот жало, так я научился теперь…
-- Когда это было?
-- В четырнадцатом году. Ну, тогда я был помоложе…
В 1914 году капитан Миловзоров в первый раз ходил в полярный рейс. Он успешно достиг на «Колыме» Нижнеколымска, но на обратном пути, у мыса Шелагского, встретил льды, прижатые к берегу: заметив, что лёд движется на восток, капитан Миловзоров вошел в льды и дрейфовал с ними пока, наконец у мыса Северного был вынужден встать на зимовку.
Во время дрейфа «Колыма» одно время стояла в небольшой полынье. Подул норд-вест. Пароход прижало к торосу. От дальнего края кромки льда начали откалываться льдины и надвигаться, вращаясь на пароход. Капитан рассчитал, что удар придётся на несколько шпангоутов сразу. Тяжелая льдина навалилась. Шпангоуты выдержали, но край тороса, выдвинувшегося под водой, как таран проткнул железо противоположного борта.
-- Хорошо, что команда была дисциплинированная. Сразу заметили, подвели пластырь. Сожаление о собственной своей прошедшей молодости слышится в воркотне капитана.
– Ну, а с этой публикой, ей-богу, пропадешь.
Сжатие повторялось периодически, через 12 часов, вероятно, в какой-то связи с приливами, очень небольшими, впрочем, в этой части моря.
-- В таком случае надо уйти с этого места… Но может ли уйти «Чукотка»?
«Лейтенант Шмидт» все ближе подходил к берегу. Глубина падала до 20 --19 футов. Лотовый без отдыха, всю вахту, стоял на откидной решетке, непрерывно бросая лот и вытаскивая голыми руками пропитанный ледяной водой лот- линь.
В пасмурном свете полярной ночи пароход, казалось, шел в узкой речке в ранний весенний ледоход. Это плавание, действительно, напоминало плавание по мелководному плесу. Капитан парохода, идущего в Колымский рейс, должен был быть не только ледовым специалистом, но и лоцманом. Дно береговой полыньи было ровным, лишенным подводных опасностей, выглаженным льдами, но в некоторых местах, в особенности там, где в море впадали речки, образовывались опасные мели. А сидеть на мели в Полярном море хуже всякого ледяного дрейфа.
Искусство капитана Миловзорова было, прежде всего, искусством отличного лоцмана.
-- Эх, был бы я помоложе, -- тихо говорил капитан, -- пошел бы с товарищем Ландиным. Смотрите, как здесь хорошо идти на маленьком суденышке!
Чем меньше судно, тем легче ему идти и лавировать в такой ледовитой речке, какую представляет сбою чукотская береговая прогалина.
«Лейтенант Шмидт» принужден был двигаться ближе к ледяному барьеру, чем к берегу, где всюду темнела вода. От барьера стамух, поперек прогалины, нередко тянулись ледяные перемычки из однолетнего, но еще прочного льда. «Лейтенант Шмидт» входил в лёд малым ходом, пока лёд его не останавливал. Если винт начинал стучать о льдины, команда бросалась на корму с длинными бамбуковыми шестами.
Льдину легко оттолкнуть, если она плавает на чистой воде. Чаще же лёд был густ и мы со своими шестами походили на воробьев клюющих шкуру спящего мамонта. Тогда пускали в ход ледяные якоря, тросы которых наматывались на лебедку. Капитан снова прислушивался к работе винта и осторожно давал средний, потом полный ход. Иногда лёд уступал, иногда вся эта каторжная работа пропадала даром, и приходилось искать другого, более слабого места во льду.
Все-таки мы шли, шли вперед. Так прошла еще одна бессонная полярная ночь. Утро было туманным, дул благоприятный юго-восточный ветерок. До полдня прошли,
считая от мыса Ванкарем, не больше 30 миль.
Здесь, в ледяном море, в 10-12 километрах от берега, мы увидели «Чукотку» и «Колыму». Пароход и трехмачтовая красавица-шхуна стояли неподвижно более семи суток, заблокированные тяжелыми льдами, в отдаленной прогалине, за кромкой неподвижного ледяного барьера.
«Лейтенант Шмидт» медленно полз у низкого барьера, обходя эти суда, еще недавно опередившие его на сотни километров. Население «Лейтенанта Шмидта» собралось у правого борта. Мы смотрели на «Чукотку» и «Колыму», невероятно черневшие в ледяном сверкании, с не менее черной тревогой. Что было делать? «Чукотка» вызывала у нас меньше опасений, чем «Колыма». Деревянная шхуна, купленная в Америке, была построена специально для полярных рейсов, корпус ее был рассчитан так, что давлением льдов шхуну должно поднять кверху, но не раздавить.
-- Но «Колыма» с ее детским курятником и беременными женщинами… Что будет, если ее сожмет льдами? Течь она получила, очевидно, из-за перегруженности судна.
Все были бы рады подождать «Колыму». В это время радист принес на капитанский мостик радиотелеграмму.
«Аварийная, молния, п/х «Лейтенант Шмидт», капитану Миловзорову, копия Итину. У шхуны «Чукотка», находящейся на расстоянии полутора миль от нас, сжатием льдов вчера, 12 дня, поломало руль, возможно винт, погнуло гребной вал, есть внутренние повреждения, невыясненные наружные, также течь…
Ночью произошло второе сжатие, течь увеличилась. Со шхуной имеем сообщение по льду. «Колыма» собирается выйти из льдов к берегу, остаться на месте для оказания помощи «Чукотке». Ввиду создавшегося положения, предлагаю вам подождать «Колыму» в прибрежной полосе для принятия кавасаки, мешающих перегрузке грузов «Чукотки», необходимо также принять наших пассажиров после чего «Лейтенант Шмидт» незамедлительно следует в Колыму. Пароход «Колыма» остается на месте вплоть до возможной буксировки «Чукотки» в бухту «Лаврентия».109 28/VII. Лежава-Мюрат.»
Еще определеннее была радиограмма капитана Сергиевского капитану Миловзорову:
«Серьезное положение «Чукотки», возможно, сорвет наш рейс в Колыму, почему крайне необходимо разгрузить нас пассажирами, при этом условии возможно оказание помощи «Чукотке», вплоть до принятия экипажа с частью груза».
Капитан Миловзоров прочитал телеграмму, поставил ручку судового телеграфа на «Стоп», крикнул: «Отдать якорь» -- и пошел спать.
Все рассуждения были направлены теперь в другое русло:
-- Раз «Колыма» может двигаться и помощь ей не нужна, -- горячо говорил предсудкома, машинист Ситников, -- зачем же нам ждать ее пассажров? Надо идти вперед, наша главная задача – снабдить Колымский край…
Впереди лежал страшный мыс Северный, который в ледовитые годы можно обогнуть, главным образом, в начале навигации, иначе льды могут надвинуться к скалам до будущего года.
Несколько позднее от якутского правительства была получена следующая телеграмма, адресованная «Лейтенанту Шмидту»:
«Областной комитет партии, ЦИК, Совнарком Якутии настаивают на необходимости использовать все возможности достигнуть реки Колымы и твердо помнить, что иначе голод всему Колымскому, Индигирскому побережью неизбежен… Вы должны достичь Колымы»…
Хуже всего было то, что в нашем рейсе не было начальника экспедиции, которому капитаны всех трех судов должны были бы безусловно подчиняться. Поэтому единства действий добиться было трудно.
Считая, что он подчиняется Совторгфлоту, капитан Миловзоров послал телеграмму во Владивосток, Гончарову, прося его распоряжений.
Гончаров ответил радиограммой, адресованной капитанам «Лейтенанта Шмидта» и «Колымы»:
«Выполняйте рейс. В случае тяжелого положения «Чукотки», снимите пассажиров, с грузом поступайте по вашему усмотрению.31225».
Прежде чем этот ответ был получен, капитан «Чукотки» Фонарев обратился к капитану Миловзорову за помощью: «Положение ухудшается, писал он, -- до возвращения «Колымы», возможно, не продержусь, подойдите немедленно к «Чукотке».
«Колыма» медленно удалялась от «Чукотки». «Колыма» двигалась не к берегу, куда из-за сплошных льдов пробиться было невозможно, а шла обратно, тем же путем, каким забралась во льды, к мысу Ванкарем. «Лейтенант Шмидт» остался.
Несколько позднее мы узнали, что от мыса Ванкарем до Берингова пролива море совершенно освободилось ото льда. Поэтому рано или поздно «Чукотка» должна была оказаться в чистой воде. Необходимо было выждать, но капитан «Чукотки» телеграфировал, что прибыль воды, поступающей в пробоину, доходила до четырех футов в час. То же самое сообщил начальник экспедиции на «Чукотке»
т. Дьяков в телеграмме владивостокской газете «Красное знамя».
-- Что значит «вода прибывает четыре фута в час? – спросил я у капитана Миловзорова. Значит ли это, что все водоотливные средства действуют, но вода все-таки прибывает в трюмах по четыре фута в час?
-- Да, -- ответил капитан Миловзоров, я должен понимать это так.
-- Что же делать?
-- По-видимому, помочь «Чукотке» уже нельзя. Самое большее, через два часа она погибнет. Будем наблюдать за ними…
Тёплый юго-западный ветер летел надо льдами, они были влажны и нестерпимо сверкали. С риском ослепнуть я часами следил за высокими прекрасными мачтами шхуны. Время шло. Огненное солнце катилось к северо-западу. По расчету над этими мачтами должна была бы сомкнуться ледяная глубина, а «Чукотка» по-прежнему стояла стройно, спокойно, неподвижно.
Ветер почти внезапно превратился в шторм. Я не успел заметить, что он переменил направление.
-- Южный шторм! – побежал я будить капитана, пользовавшегося на стоянке случаем выспаться прозапас — Южный шторм!
Под таким свирепым напором льды должны были отступить, освободить свою пленницу.
-- Не может быть, южный…-- пробормотал капитан.
На мостике я взглянул на картушку компаса.
-- Это был норд-вест.
Ветер дул с огромной неукротимой силой часа три. Казалось, великий белый парус ледяного покрова не выдержит, разлетится в куски. Но льды не пошевелились.
Это был совсем особый, медленный, упорный мир. Всякий, кто хочет иметь дело с этим ледяным миром, должен быть таким же упорным, терпеливым и в то же время готовым превратиться в его собственную текучую и бурную противоположность…
2
…30 июля. (Из дневника).
Прекраснейший южный ветер, температура воздуха +14 !
Солнце.
Голубое небо с легкими льдинками облаков.
В такой день только бы идти.
Стоим на ледяном якоре.
Над ледяной пустыней мчится теплый ветер. Волны его ясно видны над голубоватыми ослепительными льдами. Кажется, что льдины, «Колыма» и «Чукотка», поставившая парус, быстро движутся к югу, навстречу веселому этому ветру.
Льды медленно, как скалы, отступают к северу. Мы стоим на самой границе зимы и лета. То идет снег, замерзает вода между льдинами, то приходит южная гроза, ливень, солнечный теплый час.
Сегодня лето в первый раз кинулось в настоящую атаку на белую зиму. Лето наступает широким фронтом, с боем отнимая каждый метр пространства. Зима уходит, но крепко держит своих пленников. Три одинокие мачты «Чукотки» держат нас у кромки ледяного покрова.
Над голубоватыми торосами, над сплошной, сверкающей скалистой равниной, холодной и нетронутой, мчатся волны теплого ветра. Южный ветер взлетает над тяжелым воздухом Арктики, их струи борются, слоятся, и вот начинаются изумительные миражи.
Высокие мачты шхуны вытягиваются в небо. Над ними возникает опрокинутый корпус «Чукотки». Новая шхуна плывет в голубых волнах. Вдруг над ней появляется еще одна «Чукотка», на этот раз стоящая прямо, поднятая на страшную высоту. Весь видимый мир становится неустойчивым и множится, как в граненом стеклянном яйце…
Южный ветер немного раздвинул льды, мы пошли в сложные узкие прогалины и приблизились к «Чукотке». Дальше лежал сплошной лёд, непроходимый даже для ледокола.
…В половине третьего капитан Фонарев телеграфировал:
«В 14 часов потерял винт. Совсем двигаться не могу. Есть разводья, по которым якорями выбираюсь за торосы. Выбраться к берегу могу только на буксире. Нужна ваша помощь. По направлению «Колымы» есть разводья, увеличиваются».
Но «Колыма» уходила все дальше и дальше, стремясь выйти в безопасную прибрежную прогалину. Часов в семь капитан Фонарев сообщил: «Судовым советом решено судно не оставлять до последней возможности. Если придётся оставить судно в случае гибели, экипаж и пассажиры будут следовать к берегу, по направлению к «Шмидту».
Экипаж «Лейтенанта Шмидта» стал готовиться выйти навстречу экипажу «Чукотки».
Сейчас, около полуночи, капитан Миловзоров получил телеграмму с «Колымы», за подписями капитана Сергиевского и Мюрата. В ней говорилось о тяжелой обстановке, в которой пароходу приходилось пробиваться к берегу, почти непрерывно подрывая лёд аммоналом. Верхняя петля руля была сломана. «Состояние льдов, -- заканчивалась телеграмма, -- не позволяет задерживаться на одном месте более двух-трех часов. Лично вам рекомендуем действовать исключительно по собственному усмотрению, сообразуясь обстановкой, общим положением, вашими возможностями и умением, учитывая основные задачи рейса».
Бледная ночь плывет над ледяным морем с тремя черными неподвижными кораблями…
………………………………………………………………………………………………………
…«В 14 часов, считая погоду установившейся, снялся с якоря для дальнейшего следования» (1 июля. Из рейсового донесения капитана Миловзорова)…
…Плавание продолжалось около двух дней. Пароход шел в прибрежной прогалине, полной мелких талых льдин. Иногда лёд был так густ, что пароход шел полным ходом. Мелкие льдины только задерживали его, но не представляли опасности при столкновении. Напротив, когда лёд в прогалине становился реже, приходилось убавлять скорость, так как пароход с разбега сталкивался со льдинами оставлявшими на его скулах круглые вмятины.
Справа, в море за линией стамух, все время был виден сплошной неподвижный, непроходимый лёд. Плавучие льдины в береговой прогалине резко отличались от этого арктического льда. Вокруг нас было много тонких льдин, видимо весеннего образования, и самых разнообразных обломков всех видов льда: голубого – многолетнего, совершенно пресного, зелёного, еще не потерявшего в глубине капелек рассола, плоского – годовалого и торосистого, превратившегося в грибы, белых и бурых чудищ. Они оживали, эти холодные зверюги, разбуженные вторжением судна. Пустынный берег плыл в стороне, никем незамечаемый. Все внимание поглощал лёд да ритмичные выкрики лотового: три -- пять, три -- четыре. (т.е. глубина: 3 морских – шестифутовых -- сажени и 4 фута)
Вдруг, в дикой путанице льдин, мы ясно услышали радостную трескотню руль-мотора. Берег был по-прежнему пуст. Темные горбатые горы поднимались вдали. Берег оттеснил нас в этом месте дальше в море. Здесь впадала река «Омгуэм» -- так более или менее правильно следует передать её чукотское название, ставшее известной под именем «Амгуэмы», после гибели на льду ее лагуны авиатора Эйельсона. Из-за ледяной поганки, грозившей каждый миг обрушить свою огромную белоснежную шляпу, вынырнула чукотская байдара, шедшая под мотором. Пароход остановился. В этом море даже лодку встретить – событие. Один из чукчей, сидевший в байдаре, был одет в синюю американскую робу. Он отлично говорил по-русски. Фактория на мысе Северном сгорела. Узнав, что на фактории мыса Ванкарем много товаров, чукчи отправились за ними, потеряв надежду на приход шхуны.
--У мыса Северного,-- сказал он,-- лёд еще не вскрывался. На охоту в море ездят на собаках.
Капитан плюнул.
-- Так вот для чего «Чукотка» залезла в тяжелые льды, а мы торопились оставить её с «Колымой»! Чтобы узнать, что путь впереди закрыт!.
Капитан пошел в радиорубку сообщить новость капитану Сергиевскому.
Первого августа на горизонте открылся мыс Северный. Береговая полынья стала суживаться и в 6-7 милях от мыса закрылась барьером беспредельных ледяных полей, надвинувшихся на самый берег. На первый взгляд лёд не казался сплошным, всюду блестела вода; но это были не полыньи, а талые озерки на поверхности могучих льдин. Вода в них была совершенно пресная. «Лейтенант Шмидт» встал на ледяной якорь у края льда, в 2-3 километрах от берега. Тотчас же, чтобы не совсем даром терять время, капитан распорядился качать брандспойтом пресную воду с ближайшей льдины. Впоследствии «Лейтенант Шмидт» брал воду непрерывно в течение двух недель, но уровень воды в пресной луже нисколько не изменился. Очевидно, пресная вода соединялась «подземными» ходами.
Лёд в районе мыса Северного, действительно, был страшно тяжел. Нигде не встречалось тонкого весеннего льда. Громадные многолетние льдины свидетельствовали об очень сложном происхождении простиравшихся перед нами ледяных масс. Могучий круговорот смешал в одно целое грязные, зеленые, белые и голубые льдины. Весь лёд был неровен, торосист. Всюду вздымались, достигая 8-10 метров над уровнем моря, гигантские голубые стамухи, осколки арктического пака, прочно стоявшие на мели даже далеко в море и крепко сковывающие плавучие льды. Казалось, никакая сила их не сдвинет, никакое полярное солнце не растопит. Ни один ледокол не мог бы идти в этих льдах. Мы смерили высоту льда над уровнем моря в ближайшей трещине. Края льда нигде не были ниже метра, а в одном месте, где трещина прошла через довольно ровную ледяную возвышенность, высота льда над морем равнялась шести метрам. Легко было представить его мощность, вспомнив, что по закону удельного веса, примерно, восемь-девять десятых ледяной массы находится не над водой, а под водой.
На горизонте чернел знаменитый мыс, где не раз зимовали корабли. Капитан Кук, который первым дошел до него со стороны Берингова пролива, 29 августа 1778 года, назвал его мысом «Северным» -- так далеко врезался он в неодолимый лед пролива Лонга.
Таким образом, мыс Северный является всего лишь самым северным пунктом той части Азии, которую Кук видел в 1778 г. На самом деле он не является, конечно, ни самым северным мысом Азии, ни самым северным мысом Чукотского побережья. Правильнее было бы назвать его Западным, потому что он лежит на самой границе Восточного и Западного полушарий, в нескольких минутах к востоку от 180 меридиана. Таким образом, граница Восточного и Западного полушарий является одним из наиболее трудных участков Северного морского пути.
Настоящее чукотское, название мыса – Рыркарпий, что значит: Моржовый мыс. Чаще пишут «Рыркайпий» (раньше писали « Иркайпий»), но второе «р» в чукотском языке звучит глухо, приблизительно так же, как в английском, поэтому наши полярники произносили: «Рыркарпий».
Ровно через сто лет после Кука, в 1878 году сюда подошел, с противоположной стороны, Норденшельд на «Веге», впервые доказавший возможность плавания Северным морским путем из Атлантического океана в Тихий без зимовки. Правда «Вега», имевшая слабую машину все же зазимовала в районе Колючинской губы, но, в общем, лето 1878 года было исключительно благоприятным. 28 сентября «Вега» стала на якорь у селения Питлекай, близ входного мыса восточного берега Колючинской губы, ожидая, что любой ветер разобьет небольшую ледяную перемычку, преграждавшую ей путь; но ветра не было, начал образовываться молодой лёд, и «Вега» осталась у Питлекая до 18 июля следующего, 1879, года, когда она снова двинулась вперед, и через два дня, 20 июля, вышла в Берингов пролив. В дни начала зимовки «Веги» американская зверобойная шхуна «Мейер» шла по чистой воде от острова Геральда к мысу «Сердце-Камень», которого достигла 30 сентября. Таким образом, менее ста километров (а может быть всего 20-30 километров) отделяли «Вегу» от совершенно безледных пространств моря. В 1878 году китобой Кинан достиг семьдесят третьего градуса северной широты, к северу от острова Врангеля (на меридиане 179⁰Е). Летняя полынья в Чукотском море достигла необычайного развития. Кто знает, может быть чистое море к северу от острова Врангеля соединялось с такими же свободными ото льда пространствами Восточно-Сибирского моря или отделялось от него разреженными проходными льдами, так что «Вега» могла бы пройти в Тихий океан, пролагая курс в более северных водах Полярного моря…
Когда выяснилась неизбежность зимовки, Норденшельд писал:
«Этот неожиданный удар тем труднее было хладнокровно переносить, что мы, несомненно, избегнули бы его, если бы успели прибыть несколькими часами раньше к восточному берегу залива Колючинского. Сколько было случаев, когда можно было сберечь эти часы»¹.
Главной причиной задержки, и притом не на несколько часов, а на несколько дней, были льды у мыса Северного. Сейчас достаточно ясно, что Норденшельд мог бы не стоять у мыса, а пробираться узкой полосой чистой воды вдоль берега, у песчаной косы, что Норденшельд впоследствии и сделал, но обвинить его в ошибке было бы равносильно требованию, чтобы он и капитан «Веги» Паландер, впервые плававшие в этих водах, обладали таким же лоцманским опытом, как, например, Миловзоров…
…После установления регулярных плаваний к устью Колымы, начатых в 1911 году, мыс Северный также неизменно являлся главным препятствием на пути судов. В 1914 году здесь зимовала «Колыма». В 1919 г. «Ставрополь» и американская шхуна «Полярный медведь» не смогли обогнуть мыс Северный и, в конце навигации, повернули обратно, причем «Ставрополь» зазимовал в Колючинской губе. Эта зимовка была вызвана, впрочем, желанием находившихся на «Ставрополе» колчаковских спекулянтов поторговать с чукчами…(Имеется и ряд других примеров).
…Состояние льда у мыса Северного в 1931 г. напоминало состояние льда в 1919 г…
…Я спустился с мачты, откуда тщетно старался найти хоть одну полынью. На палубе, по железным бакам с керосином, были проложены доски, ведшие в матросский кубрик. Этот кубрик, тесный, полутемный, с двумя рядами нар… Лед грозил запереть здесь людей на целый год.
О зимовке все думали с ненавистью. Только боцман Карл Якобсон был равнодушен к нашему ледяному страху. У боцмана не было семьи. Единственной его страстью была охота. Он обладал отличным ружьем какой-то дорогой и редкой марки, с которым не расставался. Даже в редкие месяцы жизни на суше он уходил в тайгу Приморья стрелять крупную дичь. Самое настоящее его место было бы на зверобойном судне, но в то время на Дальнем Востоке еще не было зверобойных судов.
Боцман спокойно смотрел на лед, остановивший «Лейтенанта Шмидта». Он уже выпросил у капитана разрешение выйти на берег пострелять уток. Что же касается зимовки, то самая лучшая охота как раз на зимовке. Карл Якобсон – первый рекордсмен по зимовкам на кораблях. Он зимовал на два года больше, чем Миловзоров, и, вероятно, за ним можно установить не только всесоюзное, но и «мировое» первенство в этом деле.
Я не ошибся. Якобсон зимовал и на «Ставрополе» в 1919 г.
-- Лед, который остановил «Ставрополя» и «Полярного медведя» в девятнадцатом, был таким же, как этот… -- я кивнул на белый горизонт… -- или, может быть, еще хуже?
-- Нет, -- ответил эстонец. – Лед такой. Только был он еще больше. Мы стояли далеко, еще дальше. Было холодно.
У черного борта неподвижно темнела вода с тонкими кристалликами ледяного «сала», но слова боцмана все же поднимали надежду. Год был ледовитым, но, по-видимому, лучше, чем 1919-й, лед еще мог расступиться и пропустить нас в Колыму.
По льдам к «Лейтенанту Шмидту» бежали двое чукчей.
-- Иэтти! (Здравствуй!) – крикнул им боцман.
-- Ии, -- ответили чукчи и прибавили по-русски: -- Здравствуй!
Это были Анчино и Этуг, молодые охотники из селения Рыркарпий. Они были одеты в европейскую (вернее, американскую) одежду: брюки из плотной синей материи, пиджачок, кожаная куртка, рубашка с отложным воротничком; у Анчино – русская городская шапка, у Этуга – кепка. Только обувь, легкие летние «плеки», была чукотская. Оба они довольно хорошо говорили по-русски.
-- Наверно родились в пятнадцатом году, -- улыбнулся боцман.
Многочисленные зимовки кораблей прибавили немало новой крови чукчам Рыркарпия. Особенно выделялся Анчино . – высокий, стройный, с большими черными глазами, большими мягкими губами и довольно правильными чертами лица, ровного медно-красного цвета.
Молодые чукчи рассказали, что из-за сплошных льдов охота у Рыркарпия в этом году плохая. Факторию сжег полгода назад бывший заведующий. Чтобы прибавить жару сырым дровам, он подлил в печку бензина из большого железного чайника. Бензин в чайнике вспыхнул, заведующий убежал. Дом со всей канцелярией АКО и товарами сгорел.
Связавшись по радио с Мюратом, мы решили выгрузить часть снабжения, предназначавшегося для чукчей Рыркарпия, немедленно, главным образом муку.
На следующий день мы отправились пешком в селение Рыркарпий, чтобы вызвать чукчей для приема продуктов и посмотреть на пролив Лонга с высоты скал мыса Северного. Наблюдать состояние льда с высоты мыса Северного стало обычаем. Ледяной покров оттуда был виден километров на 50-60. Сам капитан Миловзоров не пошел (это, ведь, означало пройти километров 30 по гальке, тундре и скалам), он попросил пойти своего старшего помощника т.Башкатова и меня. С нами пошли комсомольцы Косицын и Музыченко – будущие председатели риков ² чукотских национальных районов, Анчино и Этуг. В шлюпку сел, разумеется, и боцман, вооруженный своей двухстволкой. У Музыченко была малопулька, у Анчино – винчестер.
Берег в этом месте представлял собой огромную косу мелкой гальки, отделявшей море от обширной лагуны, соединенной с ним узким горлом. В противоположность морю, лагуна была совершенно свободна ото льда. Она была прекрасным пристанищем и естественным аэродромом для гидропланов будущей воздушной линии.
Боцман немедленно зашагал к лагуне, в поисках дичи. С нашей стороны, на самом краю льда, шагов на полтораста от берега, сидели три утки. Комсомольцы открыли пальбу. Чукотские утки спокойно чистили перышки. Анчино сидел на самом гребне песчаной косы и застенчиво улыбался. Мы громко смеялись. Не меняя позы, Анчино поднял винчестер. Через миг утка неподвижно легла на льдину взъерошенным черным комочком. Второй выстрел уложил еще одну птицу, третья, наконец, улетела.
Чукчи привыкли беречь патроны. Музыченко был неплохим стрелком. Он только что вышел из рядов Красной армии, носил красноармейский шлем и шинель с черными петлицами инженерных войск.
…Мы пошли вдоль края льда.
Ледяной покров занял не только все море. Давлением ледяных полей край его был выдвинут на сушу. Всюду вдоль нашего пути, за исключением небольшого разводья у самого мыса, на прибрежной гальке валялись огромные льдины в метр – два метра толщиной. Льдины, лежавшие на берегу, тесно примыкали к льдинам в море, так что лед здесь походил на гигантскую тарелку с толстым приподнятым краем. Все льдины были совершенно пресными, по крайней мере на поверхности. На полпути мы остановились отдохнуть и наполнили наш чайник пресной водой из чистейшего озерка на ближайшей льдине. Заглянув в трещину между льдинами, лежавшими на дне моря, я увидел, что на дне также лежит слой льда, покрытый морской водой.
Укрепив чайник на китовом ребре между двумя огромными позвонками, встречавшимися всюду, мы вскипятили воду на костре из плавника, собранного на этом участке берега. Топлива на берегу было мало, большие стволы попадались крайне редко, для костра мы собрали только тонкие обломки сучьев. Впрочем, чукчи и зимовщики успели сжечь много плавника, собранного на этом участке берега.
Здесь, в плавнике, исследователи находили породы деревьев американского происхождения. Отсюда делался вывод, что плавник сюда приносится из Америки и что течение идет вдоль берега с востока на запад. Это, как мы теперь знаем, неверно. Американский плавник выносится течением сначала в район острова Врангеля, откуда, попав в дугообразное холодное течение, идущее сначала на юго-запад, а потом на юго-восток, выкидывается нажимом льдов на берег, в районе мыса Северного.
День был солнечный, ясный, совершенно безоблачный. Солнце клонилось к северо-западу, когда мы подошли к мысу, очень напоминавшему цветом скал и формой мыс Ай-Тодор в Крыму. За этим первым мысом, соединенным с материком довольно высоким перешейком, следовал второй. Издали мыс походил на двуглавого дракона. Второй, западный мыс, дальше врезался в море, представляя собой главное препятствие для навигации. Он был соединен с материком узкой полосой гальки, шириной всего 15-20 метров. Мы пошли по ней и поднялись на высокую скалу. Отсюда, с высоты 200 метров, открылся пролив Лонга, набитый льдом плотно, как погреб. Только в лагуне между мысами была видна вода. Здесь когда-то стояла «Вега».
У берега лед был взломан, но совершенно непроходим. Льдины были вплотную придвинуты к скалам. В море – безграничные ледяные поля. Нигде не было видно ни одной прогалины. Только вдали, на северо-западе, лед был голубого цвета, по-видимому, лед битый. Небо на горизонте показалось мне также более голубым, чем в зените. Может быть посредине пролива был разбитый лед. Надеяться же, что там чистая вода, соединяющаяся с открытыми пространствами Восточно-Сибирского моря, было нельзя. В ледовитые годы полынья Чукотского моря не распространяется западнее района мыса Северного. Это доказано экспедицией на ледоколе «Красный Октябрь», пересекшим пролив Лонга от острова Врангеля до мыса Якана, и последующими наблюдениями во время перелетов на остров Врангеля.
Я смотрел на ледяной горизонт… Художник восторгался великой красотой стихии, путешественник жадно запоминал детали ледяного покрова и целился в него объективом фотоаппарата, а мое «сердце моряка» наполнялось общепринятыми морскими ругательствами, относившимися ко всему этому огромному отвратительному и ослепительному препятствию. «Красин» не мог бы пробраться сквозь эти льды, не только что наш «Лейтенант Шмидт»!
Прежде, чем вернуться с плохими вестями к капитану Миловзорову, мы зашли на факторию – пообедать. Вечернее солнце становилось золотым. Фактория помещалась в палатке. Рядом чернели обуглившиеся остатки сгоревшего дома, валялся всякий хлам. Пришел молодой чукча Гой-гой, немного говоривший по-русски, заместитель заведующего факторией. Председатель сельсовета, пожилой чукча в оленьей одежде и городских ботинках, которыми он, видимо, гордился, спросил, можно ли идти на пароход, чай – пауэркин?
-- Сейчас, сейчас,-- говорю я.
-- Той-той, -- отвечает чукча, показывая на себя.
Это его имя.
Мы разжигаем костер, огонь по чукотски: динь-динь. Кладем в чайник лед: тинь-тинь. Получается вода: миль-миль. Детские односложные повторения характерны для чукотского языка. И чукчи все молчаливы и приятны, как незнакомые дети.
В поселке несколько яранг, разбросанных по зеленой площадке. В центре ее стояли самые обыкновенные качели. Чукчанка раскачивала маленькую девочку. Я вошел в ярангу. Отощавшие псы едва гавкали, но в яранге вкусно пахло вареной дичью. В котле кипятилось мясо нерпы. Красивая молодая чукчанка в зеленой мужской рубашке и черных мужских суконных брюках кормила грудью ребенка с белокурой головкой. Это бывший заведующий факторией оставил свое наследство.
На пароходе собралась целая толпа чукчей. Солнце зашло. Чукотские мальчики бежали по темнеющей гальке, собирая голубые цветочки, похожие на крошечные незабудки, каким-то чудом расцветшие на песке, рядом с великими льдами.
-- Анкаультенхин, анкаультенхин! – кричали они.
Я заметил, что мальчики с удовольствием ели зеленые лепестки подобно нашим детям, нашедшим на лужайке черемшу или дягили…
Полярная ночь светилась сумеречным светом. Стало пасмурно. Идти по гальке было тяжело. Чукчи ушли вперед. Я шел один. Льды лежали неподвижно. У моих ног белели кости китов. Черепа моржей зияли тремя круглыми, почти одинаковыми отверстиями глазниц и пастей. Я бережно нес маленькое гнездышко полярных незабудок, заучивая услышанные чукотские слова. «Лейтенант Шмидт» исчез в тумане. До него оставалось еще несколько часов ходьбы.
В такие часы самое лучшее времеемкое занятие – сочинять стихи. Ритм стихов навевал трудный путь, пустыня, полярная ночь.
-- Анкаультенхин, голубой цветочек!
Южный ветер дохнул, он вырос на гальке…
Его лепестки любят чукотские дети
Анкаультенхин, голубой цветочек…
Я иду по берегу Полярного моря.
Великие льды преградили нам путь,
С вершины Рыркарпия бел и недвижен
Пролив Лонга.
Кости раотам-кита отмечают дорогу.
Череп рырка смотрит тремя глазами.
Кричит чайка -- аяк.
Молчит проводник Этуг.
Тинантунг. Тиньтинь. Тиркитир:
Небо, лед, солнце --
Вот его дом…
Анкаультенхин, голубой цветочек!
Мы прошли двадцать миль по мелкой гальке,
Я устал и потому говорю с тобой,
Напевая в такт, как чукча.
Ритм, ритм -- великая вещь!
Если горе, не теряй этого ритма.
Я иду по берегу Полярного моря.
Льды надвинулись к самым моим ногам,
И даже дно морское замерзло.
Год тяжелый, лед.
-- Йоо, подуй!
Южный ветер, подуй!
Вот когда моряки просят шторма!
Но ветер -- спит.
Один просит шторма, другой тишины.
Русский -- свободного моря, чукча -- льда,
На котором спят рырки-моржи…
Рыркарпий надвинулся в море
До самого зимнего льда.
Спит Тинантунг --Тиньтинь.
Ему все равно.
………………………………………………………………………………………………….
Часа в три ночи я добрался до своего диванчика. Старпом пришел раньше меня и доложил капитану о состоянии льда. Капитан еще не спал.
-- «Чукотка» потонула, -- сказал он.
3
3 августа. (Из рейсового донесения капитана Миловзорова).
«…стало очевидным, что проход вперед для «Лейтенанта Шмидта» непосилен, почему принуждены были стоять в ожидании улучшения состояния льдов.
После полудня приостановил приемку воды и отошел от льдины на якорь, ближе к берегу, для производства выгрузки груза на факторию АКО, находящуюся на мысе Северном.»…
Телеграмма с парохода «Колыма»:
«… Если имеете возможность, окажите помощь «Колыме»…»
Груз был уже на кунгасах, капитан решил не прерывать выгрузки, а ускорить ее. Поэтому снялись с якоря только в полночь и пошли обратно к устью Омгуэмы.Этот день, 4 августа, был фантастически теплым. Дул легкий юго-восточный ветер. Термометр показывал +17. Береговая прогалина была почти свободна от льдин. Пароход шел полным ходом.
В полдень увидели «Колыму». Она стояла почти в центре обширной полыньи, свободной от льдин, расплавленных рекой и солнцем, нагревавшем полынью. Вдали виднелось множество грибообразных льдин с очень тонкими талиями, свидетельствовавшими о сравнительно высокой температуре поверхностного слоя воды.
День прошел в авральных работах. Заносили буксир, спустили все кунгасы и моторные суда, чтобы перегрузить часть груза с «Колымы» на «Лейтенанта Шмидта»…
На «Колыме» находилось несколько человек с потонувшей «Чукотки»…Их рассказы нарисовали совсем иную картину гибели «Чукотки», чем та, которая представлялась нам издали. Вода прибывала «по 4 фута в час» не в трюмах «Чукотки», а в междудонном пространстве, когда мотор стоял. Водоотливные средства «Чукотки» откачивали эту воду начисто, в короткий срок. Опасность могла бы возникнуть только в случае порчи и остановки мотора, но мотор и все механизмы действовали хорошо. Таким образом, судно могло держаться на воде неопределенное время.
«Колыма», выйдя в береговую прогалину, не стала выжидать улучшения состояния льда у «Чукотки», а сразу стала снова пробираться к ней. Подойдя к «Чукотке» на расстояние немногим меньше того, на которое подходил «Лейтенант Шмидт», «Колыма» очутилась в тяжелых льдах.
Капитан Сергиевский еще раз посмотрел на сплоченные ледяные глыбы и в тягостном раздумьи спустился с мачты.
Навстречу капитану, приветливо раскланиваясь, ковылял, стуча по железной палубе костылями и протезами, заведующий оленеводческим совхозом, назначенный в Нижне-Колымский район…
… У трубы, на решетке машинного отделения, собрались остальные пассажиры. Команда называла это место «черной биржей» очевидно за фабрикацию пароходных слухов и сплетен. Две пассажирки полулежали на солнце, болтая ножками в шелковых чулках и остроносых туфельках. Капитан стиснул зубы, представив себе, как завизжат эти гражданки, когда в туфельки попадет ледяная вода. Он быстро спустился вниз. Вова и Боба, споткнувшись о комингс, растянулись у него под ногами.
-- Марш в каюту! – закричал капитан.
Он испытывал желание спрятать голову от этого семейного несчастья, как страус. Он не спал несколько ночей. Великие льды неотступно сияли перед его воспаленными глазами. Из лазарета летел тончайший визг. Жена капитана шхуны «Пионер» рожала. Капитан Сергиевский на секунду остановился, еще раз оглянулся на свой «детский сад» и решительно зашагал в радиорубку.
Помня о полученном предписании продолжать рейс, капитан Сергиевский счел себя не в праве дальше рисковать. Он предложил командованию «Чукотки» выбор: либо экипаж «Чукотки» немедленно покидает судно и переходит на «Колыму», либо «Колыма» уходит.
Совещание руководителей рейса на «Чукотке» решило покинуть шхуну…
Зимой того же года в Нижнеколымске я остановился у т. Захарченко, еще не собравшегося переехать на свою факторию, в Островное. В один из длиннейших полярных вечеров он рассказал мне о своем последнем дне, проведенном на «Чукотке».
Капитан Фонарев стоял на мостике и отдавал приказания.
-- Расстрелять животных! -- скомандовал он.
На «Чукотке», как на «Колыме» и «Лейтенанте Шмидте» были коровы и свиньи.
Захарченко и несколько других молодых людей, которым всякая стрельба казалась удовольствием, побежали за винчестерами.
-- Свиньи, те ничего, визжали, -- рассказывал он, -- а вот коровы падали молча. Больно было смотреть. Глаза печальные, не понимают, за что? Я бы лучше спустил коров на лёд, может быть дошли бы сами…
Старый механик «Чукотки» отказался остановить мотор и уйти из машинного отделения. Капитану Фонареву пришлось приказать старику покинуть судно. Механик ушел плача.
-- Когда все вышли на лёд, то вдруг почему-то страшно заторопились и бегом кинулись к «Колыме», точно боясь, что она уйдет. Некоторые провалились между льдинами и кричали; но остальные от этого крика побежали еще скорее. Один матрос, после такого купания и бега, умер, не дойдя до «Колымы» от разрыва сердца…
Как раз в это время на «Колыме» была получена телеграмма от капитана Миловзорова о том, что льды у мыса Северного непроходимы и, значит, «Колыме» можно не торопиться.
Лед между «Чукоткой» и «Колымой» быстро разрежался. Все свидетели уверяли, что улучшение состояния льда «было заметно на глаз», так что «под конец на «Чукотку» ездили на шлюпке».
Экипаж «Чукотки» доставили на факторию близ мыса Ванкарем, как раз туда, где впоследствии была организована база для приема людей с погибшего «Челюскина». Затем экипаж «Чукотки» двинулся вдоль берега в Уэллен. По сообщению капитана Фонарева, между мысом Ванкарем и мысом Дежнева льда в это время не было. Следовательно, кромка льда проходила довольно близко от района «Чукотки», чем и объяснялось быстрое улучшение условий плавания.Весь день с «Колымы» видели, что «Чукотка» держалась на воде, погружаясь очень медленно. Она потонула, по-видимому, только на следующий день. На обратном пути от Ванкарема ее с «Колымы» уже не видели…
Становилось очевидным, что необходимости покидать шхуну не было. В крайнем случае, экипаж «Чукотки» в любое время мог выйти на лед и благополучно добраться до берега, тем более, что на «Чукотке» была только одна женщина и один ребенок. На «Колыму» их переправляли через полыньи в брезентовой шлюпке. Выждав улучшение в состоянии льда, «Чукотка» могла бы подойти к берегу и без посторонней помощи…
…Поздно вечером «Лейтенант Шмидт» снял «Колыму» с мели. Пароходы встали рядом для перегрузки. Дружная общая работа рассеяла некоторую натянутость в отношениях между «шмидтовцами» и «колымчанами», возникшую из-за разногласий в деле помощи «Чукотке». Теперь всех нас одинаково грызла досада.
-- Почему вы не забрали у нас пассажиров? – нападали колымчане. – Мы бы тогда, может быть, подошли бы к «Чукотке»!
-- А почему вы не ждали, пока лед разойдется? Все равно у мыса Северного прохода не было…
-- Да если бы мы знали!.
-- Если бы на мысе Северном была радиостанция!
В каюте капитана Сергиевского играла виктрола, спасенная с «Чукотки» одним из матросов «Колымы». Виктролу заводил бывший начальник экспедиции на «Чукотке» т. Дьяков. В суровой арктической тишине звучала нежная гавайская мелодия.
“Ramona
I need you
My love”
Музыка размягчала и злила. Не могу сказать, чтобы я дружелюбно взглянул на Дьякова, будущего моего спутника, с которым мне пришлось впоследствии делить лишения трудного санного пути. Начальник экспедиции на «Чукотке» был еще молодым человеком, с бледным бритым лицом и платиновыми зубами, весельчак и матерщинник. Сидел он всегда подальше от иллюминаторов, боясь сквозняков, так как незадолго до похода болел плевритом. На «Чукотку» он попал, по-видимому, только потому, что был служащим АКО 3. В полярной навигации он понимал не больше, чем в управлении стратостатом.
«Рамона,
Я хочу тебя,
Моя любо-о-о-овь…».
-- Закройте вы ей глотку!
Я подошел к окну. Неизменные льды лежали в море.
Я и сейчас ясно вижу эти мерцающие льды, навсегда оставшиеся в памяти. Среди белых полей глаз невольно искал высокие мачты «Чукотки»… Но вместо красавицы-шхуны на карте здесь остался только маленький крестик. И если теперь продлить линию взгляда от устья Омгуэмы немного дальше, встретится другой знаменитый крестик – «Челюскин».
В рейсах «Чукотки» и «Челюскина», несмотря на все их различие, есть общие черты. Оба судна имели задание, кроме основной своей цели, попутно зайти на остров Врангеля. Теоретически это возможно, так как восточные берега острова Врангеля наиболее доступны в сентябре, но экспедиция на «Челюскине» должна была достигнуть западных берегов острова, доступных не чаще одного-двух раз в десятилетие. «Челюскин» потерял несколько дней, драгоценных в конце навигации, на попытку достигнуть острова Врангеля с запада, в то время как восточные его берега были окружены более свободным от льда морем, а затем двинулся дальше к Берингову проливу, обычным путем колымских рейсов, стараясь избежать зимовки. Как известно, на этом пути он был сначала остановлен льдами, а потом захвачен ими в дрейф и раздавлен.
«Чукотка» и «Челюскин», обладая достаточной силой и прочностью, шли в тяжелых льдах, пока не потеряли возможности самостоятельного движения. Это и погубило их. Весь предыдущий опыт полярной навигации на востоке говорил, что все суда, терявшие возможность выхода из льда в этой части Ледовитого моря и находившиеся вне пределов безопасной береговой полосы, были раздавлены льдами. Так погибла «Жанетта» (USS Jeannette) экспедиции Де-Лонга, «Карлук» экспедиции Стефансона и множество зверобойных судов. Безнаказанно дрейфовать со льдом могли только такие суда, которые при сжатии выскакивали на поверхность, как арбузные семечки из пальцев. Такими судами были «Фрам» Фритьофа Нансена и «Мод» Амундсена…
На следующий день мы вернулись к мысу Северному. Состояние льда в береговой прогалине ухудшалось, так как подул норд-вест, но лед у самого мыса, являвшийся главным препятствием, значительно изменился к лучшему. Ледяной барьер отодвинулся к мысу почти на километр. Это с очевидностью отмечал оставленный на берегу склад продуктов, оказавшийся далеко позади нас. В одном месте, метрах в 800 от берега, лед настолько разредился, что «Колыма», пришедшая раньше «Лейтенанта Шмидта», смогла пройти 3-4 километра по направлению к мысу и остановилась во льдах.
Капитан Миловзоров опять встал на ледяной якорь у кромки льда, загораживавшего прибрежную полосу чистой воды.
-- Мы не пойдем к «Колыме»? – спросил я.
-- Что? «Соревноваться» желаете? – с неожиданным раздражением ответил старик.– Удаль проявить?
Я вспомнил, спохватившись, рассказ ревизора «Колымы», т. Шишова, -- «Чукотка» и «Колыма», -- рассказывал он нам, -- одно время вместе шли во льдах против Ванкарема, стараясь обогнать друг друга. «Чукотка», наконец, обогнала и окончательно застряла…
-- Не стоит, -- спокойно пояснил капитан. – Во льды надо идти тогда, когда много шансов за то, что пройдешь до конца. Пройти 2-3 мили вперед, как «Колыма», -- пустяки, а вот сохранить возможность маневрирования гораздо важнее. В 1922 г., как раз там, где стоит «Колыма», был такой нажим льдов, что весь этот заливчик закрыло высокой грядой стамух. Кроме того, часто лед вскрывается вон там, -- капитан отчеркнул рукой прямую, касавшуюся скал мыса, -- дальше в море, где идет течение…
Льды закрывали морской горизонт.
-- Стоять у кромки льда все равно, что сидеть в траншее. Окопная война.
-- Да, война на выдержку… Почему, однако, в Арктике гибнут шхуны, а не пароходы: «Профессор Б.Житков», «Зверобой», «Чукотка»?
Какую ненависть вызывала эта белая армия льдов! Стиснув зубы, мы клялись, что «Чукотка» будет последней.
Список потерь пополнился «Белухой», «Челюскиным». Капитан Воронин сказал: «Я уверен сейчас в том, что «Челюскин» последняя жертва в борьбе за Великий Северный морской путь!.».
Я думал, стоя в «вороньем гнезде» остановившегося во льдах парохода.
-- … Надо учиться, овладевая каждой деталью истории полярных плаваний. Готовить кадры. Учиться вот у этого старика…Каждый год определять кромку, изучая хитрые маневры льдов. До сих пор мы даже нерегулярно издаем ежегодные сведения о состоянии льда в наших полярных морях. Этим занимаются в Копенгагене. Много, много еще надо сделать!
Примечания
¹ А.Э.Норденшельд. Вокруг Европы и Азии на пароходе «Вега» в 1878-79 гг. (Приложение к книге М.С.Боднарского «Великий Северный путь». ГИЗ, 1926, М.-Л., стр.216).
² рик – районный исполнительный комитет.
3 АКО – Акционерное Камчатское Общество (1927 – 1945) было создано с целью развития экономической жизни Дальнего Востока и Севера.

В.Итин на севере. 1931г.

Капитан Н.И.Евгенов с В.А.Итиным.

Капитан П.Г.Миловзоров
ЗЕМЛЯ СТАЛА СВОЕЙ
(из книги "Выход к морю", Западно-Сибирское краевое издательство,
Новосибирск, 1935г.)
1.Велосипед на фактории
-- Оказывается, Великий северный морской путь впервые пройден «в одну навигацию» не на ледокольном пароходе «Сибиряков», а на велосипеде.
Мои слушатели засмеялись.
-- Рассказывай по порядку! -- крикнул Вася Кудрин. Ему хотелось побольше узнать о китах и моржах.
Нечего делать, пришлось рассказывать «по порядку».
-- Мы прошли Берингов пролив. Под азиатским берегом густо шел лед. В море киты выбрасывали фонтаны. Белый вельбот шел навстречу китам. Гребцы были одеты в белые балахоны. Вельбот походил на льдину. Это ловцы-чукчи подкрадывались к добыче. Из-за свирепых скал мыса Дежнева показались мачты радиостанции. На низком перешейке, отделяющем мыс Дежнева от материка, у самого Ледовитого моря, стояли несколько изб и чукотских яранг. Селение называлось Уэллен. Здесь находился один из районных центров Чукотского национального округа. Уэллен славился своими новыми советскими учреждениями и токарными мастерскими, где чукчи-художники вырезали изящные вещицы из моржовой кости.
В первый раз мы столкнулись с упрямым сопротивлением льдов. Они тянулись вдоль берега неширокой белой полосой. Пароход остановился у кромки, в пяти-шестистах метрах от берега. Льды были совершенно непроходимы для «Лейтенанта Шмидта». Ни одной полыньи не было видно среди раздробленных, мятых, но крепко сжатых льдин. Какая-то сила удерживала их у берега и не давала расходиться, хотя все остальное море, до горизонта, было чисто ото льда.
В Уэллене надо было высадить пассажирку, жену начальника радиостанции, выгрузить кавасаки¹ экспедиции Воздухофлота и бочки с горючим для шхуны «Чукотка».
Предполагалось, что «Чукотка», закончив снабжение факторий, вернется к Берингову проливу и пойдет на остров Врангеля. Но спустить здесь, у ледяного барьера, кавасаки было все-равно, что оставить их в открытом море. Мы решили пройти немного дальше, надеясь, что лед где-нибудь отступит от берега. Выгрузка бочек с нефтью была невозможна. Капитан решил выгрузить нефть у «Поста Дежнева», расположенного на противоположной, южной, стороне мыса.
Население Уэллена бросилось к пароходу. Чукчи в белых камлейках ² тащили по льду байдары. Скоро белые охотничьи камлейки чукчей наполнили палубу. Меня поразил цветущий вид северян. Многие из них были высоки, сильны, у всех был яркий медно-красный цвет лиц, блестящих от жира.
Я спустился на лед. Едва я сделал несколько шагов к берегу, как «Лейтенант Шмидт» неистово загудел. Человек, шедший мне навстречу, также остановился. Он был без шапки. Длинные волосы падали на воротник черной кожаной куртки.
-- Здравствуйте, -- сказал я. -- Вы здесь работаете?
-- Я жду разрешения выехать в Америку, -- уклончиво ответил длинноволосый.
-- Вы -- кто?
-- Я путешественник.
«Лейтенант Шмидт» загудел вторично, льдина под моими ногами покачнулась, я зачерпнул в сапог ледяной воды и, смеясь от неожиданного испуга, полез на палубу.
Мы снова пошли к Берингову проливу. Внезапно подул норд-вест. Ослепительная прозрачная даль почти мгновенно исчезла. Воздух наполнился холодным рыжим туманом. Арктический фронт настиг нас неожиданно, как неприятельская разведка, напомнив о предстоящих битвах.
В мелкой бухте стояли стамухи ³. Даже на берегу, на серой гальке, валялись огромные льдины, выброшенные весенним напором. Неподвижные, голые они напоминали замерзшие трупы отступающей, но все еще многочисленной и грозной армии. «Лейтенант Шмидт» бросил якорь в километре от берега, чтобы выгрузить бочки с горючим для никогда не состоявшегося врангелевского рейса «Чукотки».
Фактория мыса Дежнева торговала торбазами, моржовой кожей, резными изделиями уэлленских мастеров и обычным ассортиментом севера: чай, сахар, табак, мука, мануфактура, ножи, топоры, пилы, оселки, оружие, патроны.
Население «Лейтенанта Шмидта» занялось выбором дорожных вещей. Больше всего нас привлекала обувь из нерпичьей кожи. Торбазами, как называют на севере всякую туземную обувь (от якутского -- этербес), запаслись все, начиная от комсомольцев, у которых, кроме городских ботинок, сандалий и спортсменок, -- ничего не было, и кончая Карлом Якобсеном, который по опыту знал преимущества нерпичьих торбазов, в сравнении с тяжелыми сапогами. Чукотская обувь была удивительно разнообразна. Здесь были короткие «плеки», немного выше щиколотки, надевавшиеся под пятнистые нерпичьи штаны, обувь до колен и до паха. Выделка была также нескольких сортов: теплые изящные торбаза, с блестящей шерстью, светлые замшевые, шерстью внутрь, черные легкие, как бумага, летние торбаза без шерсти. Все виды этой чукотской обуви непромокаемы, снизу, у щиколотки, стягиваются ремнями, пришитыми около пятки, а сверху, ниже колена, шнурком. Чукотская обувь просторна, рассчитана на меховые чулки («чижи») и мягкую стельку из сена. Лучшей обуви для полярных условий трудно придумать, если не считать, что от чукотских кожаных изделий исходит необычайно сильная и устойчивая вонь. Но к безвредным, жилым, животным запахам очень скоро привыкаешь и перестаешь их замечать.
Чукотская обувь могла бы найти отличный сбыт на всех наших промыслах, рыбалках, сплавах. В настоящее время ее едва хватает для самой чукотской страны. Из нерпы можно было бы приготовлять непромокаемые куртки, которые так ценят моряки, но которых нет в чукотских факториях. Продавались только нерпичьи штаны -- летняя одежда чукчей.
-- Нет, курток нет, -- сожалел боцман. -- Не умеет чукча. Ну, а вам зачем штаны?
Все-таки все купили нерпичьи вонючие штаны.
На полках, среди товаров фактории, я нашел несколько фигурок из моржовой кости: нерпу, медведя, песца и маленького будду, явную копию с какого-то японского образца.
Была туманная ночь, наполненная пасмурным серым светом. В деревянной сырой избе фактории с низкими маленькими окнами был сумрак. Заведующий факторией всю ночь отпускал товары. Бочки с нефтью выкатили и утвердили за линией прибоя. В факторию собирались все новые покупатели. Расчет был общий. В ожидании конца торга я пошел посмотреть склад. Везде валялись громадные бивни моржей, моржовые, лахтачьи и нерпичьи шкуры, обувь из нерпы и камысов (шкурок с ног северного оленя).
Вдруг я заметил: в темном углу стоял обыкновенный дорожный велосипед. Здесь, на мысе Дежнева, такая находка была не менее странной, чем будда из моржовой кости.
Велосипед стоял в полной готовности, с откидной подставкой для вещей, с футляром для инструментов. Шины были надуты. У него был такой вид, словно велосипедист только-что поставил его, вернувшись с прогулки. Но кругом лежала страна, где велосипед был совершенно бесполезен. Ни по моховой влажной тундре, ни по крупной гальке узкой прибрежной полосы, не говоря о каменных горах, нельзя было проехать и десяти метров.
«Вероятно, -- подумал я, -- заведующий факторией привез с собой все свое городское имущество. -- Вот чудак!».
На черной лакированной раме мелькнула маленькая дощечка из палевой кости. Я нагнулся. Уэлленские мастера вырезали на ней -- красными и синими штрихами -- белых медведей, моржей и нерп; в центре глобус, а внизу надпись:
"Путешественник вокруг света на велосипеде Глеб Травин"
Смутное, как снег дежневской ночи, воспоминание промчалось во мне. Я оглянулся:
-- Неужели! -- крикнул я; но лишь маленькая чукчанка, шмыгнувшая из-за кучи оленьих шкур, с недоумением улыбнулась мне.
Я вспомнил ясно. Года полтора перед этим, в журнальчике ОПТЭ ⁴, на последней странице, отведенной туристским чудачествам, я прочитал краткую радиограмму начальника гидрометеорологической радиостанции «Югорский шар».
Зимней ночью, в пургу, -- говорилось в радиограмме, -- в дверь общежития радистов раздался сильный стук. Вошел человек в кожаной куртке, со сломанным велосипедом в руках. Он назвал себя кругосветным путешественником, Глебом Травиным. У него была зеленая повязка и удостоверение какого-то захолустного отделения ОПТЭ.
Я подивился не чудачеству, а тому, каким образом Травин добрался до Югорского шара, вдобавок, с велосипедом, который он нес на себе. И вот теперь этот знаменитый велосипед оказался здесь, на мысе Дежнева, на крайней восточной точке Советского Союза!
Заведующий факторией рассказал, что путешественник приехал на нарте, с чукчами, месяца три назад, сейчас живет у него и ждет разрешения выехать в Америку.
-- Как-нибудь выхлопочите ему разрешение, -- добавил заведующий. -- Мне приходится кормить его за счет фактории, как у него написано в удостоверении. Денег у него с собой нет ни копейки.
Больше я не встречал Травина, так как в эту ночь он был в Уэллене, но впоследствии мне пришлось не раз слышать о нем от людей, видевших его в разных пунктах побережья Сибирского моря.
Однажды я поместил в газете маленький очерк о Травине. Очерк дошел до путешественника, «приземлившегося», по его выражению, в Петропавловске-на-Камчатке. Он прислал мне свою биографию и фотографическую карточку с надписью:
«Физкультурник, турист вокруг света на велосипеде, Глеб Леонтьевич Травин -- на производственном и физкультурном поприще. 1934 г.».
2. Вокруг СССР
Передо мной несколько неумело написанных штрихов из жизни одного из наших «молодых людей XX века», которые, не будь Октябрьской революции, шагали бы за клячей и сохой, а теперь познают и перестраивают мир.
Глеб Травин -- сын крестьянина лесной деревушки Касьево, близ Пскова. Окончательно разорившись, старик Травин ушел в город и поступил дворником к тому самому купцу, у которого была в залоге его бедняцкая полоска. Часть заработка хозяин удерживал «на погашение нарастающих процентов»⁵. Все же он отдал старшего сына в школу.
Глеб Травин кончил школу уже при советской власти и поступил в университет. Учеба давалась ему легко. В каникулярное время он успел окончить, вдобавок, четырехмесячные педагогические курсы. Здесь он сблизился с одним учителем-естественником, изучавшим местную флору и фауну. С ружьем и фотокамерой Глеб Травин бродил по лесам и полям, учась находить среди знакомой природы новое и неизвестное для него.
Шел 1919 год. Все дальше откатывались белые армии. Глеб Травин вернулся в Псков и поступил в Губсовнархоз «организатором охотников Псковской губернии». В свободное время он работал в слесарных мастерских, в качестве «любителя- подручного» и, конечно, занимался спортом. В особенности он полюбил велосипед. Он любил смотреть на дорогу, летевшую навстречу велосипедному колесу. Он был потомком лесных людей, которые таскали бревна, работали в страду по двадцать часов в сутки и годами стояли в окопах во время проклятой войны. Глеб Травин был силен и неутомим. Ему хотелось двигаться все вперед, в непрерывно надвигавшуюся даль.
Земля, которую он видел ребенком запертой четырьмя межами, державшая, как цепью, черным куском хлеба, вдруг стала своей, громадной и свободной. Тогда у Глеба Травина впервые родилась мысль о путешествии. Земля была отвоевана у врагов и новый хозяин хотел обозреть свои владения. Любовь к земле тянула крестьянина ковырять почву на своем клочке, теперь эта любовь увлекала юношу неизведанными просторами.
Старик Травин умер в 1920 году «в должности ночного сторожа и дворника единого потребительского общества». Смерть отца заставила Глеба Травина, старшего работника в семье, «приземлиться» в Пскове. Пришлось из университета перейти в Псковский институт народного образования, чтобы совместить учебу с работой вблизи от семьи. Одного института для Травина было мало. В каникулярное время он кончил электротехнические курсы, «подрабатывая в качестве электромонтера-практиканта».
Во время допризывной подготовки он стал еще больше заниматься спортом. Он все дальше уезжал на велосипеде, мечтая о непрерывном движении вперед, но он возвращался к семье, пока его не призвали в ряды Красной Армии.
В 1925 г. Глеб Травин поступил в школу командного состава. Он писал домой: «Познаю с гордостью военное дело, которое мне совсем легко дается». На военной службе он продолжал систематически заниматься спортом и был переведен в специальное спортивное подразделение. Он хорошо развивался физически, работал слесарем в ремонтных военных мастерских, сдал экзамен на «хорошо» и остался на сверхсрочную службу командиром взвода в той же школе.
После демобилизации, получив право бесплатного проезда на родину, Глеб Травин решил осуществить свою мечту о путешествии. Он назвал самый далекий от Пскова город в Советском Союзе - Петропавловск-на-Камчатке. Приехав туда в качестве демобилизованного командира запаса, этот человек, получивший высшее образование, отверг все предложения заняться комнатным трудом, чтобы не потерять своей закалки. Он организовал артель из 9 человек бывших красноармейцев и пошел заготовлять дрова. Затем он обучил членов своей артели ремеслу электромонтеров, занявшись оборудованием осветительной сети, которой до этого в Петропавловске-на-Камчатке не было.
Травин впервые увидел огнедышащие вулканы, горы, нетронутые леса. В свободное время он исколесил окрестности Петропавловска, всюду таская с собой велосипед.
Скопив денег, он разработал маршрут путешествия на север, к Берингову проливу и в Аляску. Но здесь он столкнулся с полным недоверием «в возможность передвижения по Камчатке, да еще на велосипеде».
-- Это утопия, -- сказал Травину секретарь окрисполкома, отказав ему в разрешении на выезд.
Тогда велосипедист изменил план путешествия, «дабы доказать, что утописты те, кто ничего не делает». Он сел на первый пароход и отправился во Владивосток. Прежде чем совершить путешествие вокруг света, он решил об'ехать вокруг Советского Союза, чтобы «подготовить организм ко всевозможным осложнениям».
Из Владивостока Травин двинулся на своем велосипеде вдоль южной границы Сибири. «Несмотря на всевозможные природные и естественные препятствия, -- рассказывает он, -- переход совершаю ежедневный, не менее восьми часов в сутки. Питание строго по распорядку: в 6 часов утра и в 6 часов вечера. Запаса с собой нет, кроме неприкосновенного, заключающего в себе три фунта галет и килограмм шоколада. Одежда облегченная, без головного убора».
Путешественник, действительно, выглядел довольно странно. Представьте себе парня в легких полуботинках, шерстяных чулках, рейтузах, кожаной куртке с воротником, а на голове, вместо шапки - копна длинных волос и лаковый козырек на ремешке, чтобы пряди не лезли в глаза.
Настала зима с крепкими морозами и глубоким снегом. Под веселый собачий лай велосипедист в'езжал в большие сибирские села, еще чаще он тащил велосипед на себе. Длинные волосы он придумал для «естественной маскировки», - как он выражался, - «дабы не было под мою марку каких-либо ненормальных выпадов со стороны злоумышленников».
Весной он достиг Новосибирска и стал спускаться к югу. Холод сменился жарой, снег -- сыпучими песками. Травин ехал, пополнив свой «неприкосновенный запас» флягой с водой и строго выдерживая установленный режим. Если селение встречалось раньше, чем по расписанию, он обходил его стороной. У него не было ни денег, ни оружия и он чувствовал себя в безопасности: поживиться у него было нечем.
В крупных населенных пунктах путешественник аккуратно регистрировал свой документ, чтобы «зафиксировать действительность продвижения». Отношение к нему здесь, попрежнему, было «ироническое». Очутившись в степях и пустынях, он испытывал большую потребность в точных приборах для ориентировки, так как кроме часов и примитивного компаса у него ничего не было, но никто не пошел ему навстречу. «На такое отношение, -- замечает Глеб Травин, -- я, конечно, не обижался, так как на юге вообще много всевозможных туристов и путешественников. Вполне естественно -- кто богаче по своим достижениям, тот и авторитетнее, а я своих достижений никогда не рисовал и не рисую».
Обогнув южную границу Советской Азии, Травин поднялся в Москву. Здесь Центральный совет ОПТЭ, по выражению Травина, отнесся к нему «с презрением», спутав, очевидно, инициативу с индивидуализмом, а «ВСФК⁶ более доброжелательно», снабдив новыми велосипедными покрышками.
«Путешественник вокруг света» решил, что делать ему в Москве нечего, так как прогулка Владивосток -- Москва -- сущие пустяки. «Презрение» ОПТЭ он принял, как должное. «Правда, -- признавался он, -- в рабочих поселках и крестьянских селениях я принимал активное участие в проведении кампаний, но все это не имело одной системы, связанной с какой-либо организацией, так как я имел стремление как можно скорее покрыть большее расстояние и вкратце охватить быт народов».
На второй день после приезда велосипедист выехал из Москвы, «держа курс на Псков, Ленинград и Карелию». Была северная осень. По глинистым проселкам и лесным тропам, иногда вдоль железнодорожной линии, велосипедист упорно двигался к северу через грязь, дождь и горы. За полярным кругом наступили морозы. Путешественник заметил, что одетая мхом тундра замерзала медленно, а реки и озера быстро схватывались молодым льдом.
Ровный, только-что образовавшийся лед, по словам Травина, заменял ему «асфальтовые мостовые центра». Он еще в Сибири натренировался определять крепость молодого льда, пользуясь для велосипедной езды замерзшими реками.
-- Провалишься! -- возбужденно махали руками карельские рыбаки, видя необыкновенного велосипедиста на выгибающемся ледяном помосте огромного озера; но велосипедист ехал быстро и на этот раз ни разу не провалился.
С первым снегом он «заявился» в Мурманск, зарегистрировал свой приезд в окрисполкоме и немедленно выехал дальше, на восток, через Архангельск. Здесь к нему впервые отнеслись «с некоторым уважением» и выдали «карты, компас и прочую мелочь».
-- «А о таких вещах, как более ценные приборы, -- говорит Глеб Травин, -- я, конечно, и не напоминал, так как рад был, что мне вообще разрешили двинуться северным побережьем к Новой Земле».
Из Архангельска Травин отправился на Печору, держась притоков Северной Двины и Мезени. Здесь он встретил первое серьезное препятствие на своем пути - глубокий рыхлый снег. Ехать на велосипеде, по большей части, было невозможно и Травин шел на лыжах, таща за собой велосипед, также «на лыжной установке». Дневные переходы с каждым днем сокращались. Поэтому, достигнув Печоры, он решил итти к Югорскому шару напрямик, морем, чтобы избавиться от снега.
Чем дальше от берега, тем меньше снега. Морские ветры уносят снег со льда или превращают его в твердый «убой». Бросив ненужные лыжи, Травин поехал по льду. В первое время он делал в день «до 75 километров, выдерживая направление по компасу, несмотря на снегопад и плохую видимость».
В последнем селении на этом пути, близ устья Печоры, Травин взял запас галет и немного сливочного масла, а свой велосипедный костюм заменил меховым комбинезоном и камысными торбазами. Он выдерживал дисциплину движения, как прежде, -- восемь часов в сутки и дисциплину питания -- в 6 часов утра и в 6 часов вечера. Свирепые полярные ветры и метели задержали его в море, на льду часто выступала морская вода, поднятая северным ветром, скорость движения уменьшилась в несколько раз. Чтобы облегчить груз, Травин не экономил продуктов. От галет, сахара и масла скоро ничего не осталось, так-что «долгое время пришлось иметь скудное питание -- полплитки шоколада и неограниченное количество снега». Голодный, он зарывался в снежный бугор, скопившийся у тороса, где застигал вечер.
Новый меховой костюм в первый же день показал свои отрицательные качества. Меховая одежда и обувь хороши тогда, когда их можно ежедневно просушивать. На пути Травина не было плавника. Днем, во время езды, он сильно потел в излишне теплой одежде, шерсть быстро выпревала и клочьями оставалась в берлогах его ночевок. Обувь так раскисла от пота, что ее нельзя было снять без риска разорвать окончательно. Во время ночного отдыха между портянкой и камысами намерзал слой льда.
Однажды, во время одной из таких ночевок, на полпути от устья Печоры до Югорского шара, из-под тяжелой льдины, рядом с которой спал Глеб Травин, зарывшись по обыкновению в сугроб, выступила вода и пропитала снег. Сильный мороз быстро превратил его в одно целое с торосами. Путешественник проснулся в ледяном склепе.
Шерсть его комбинезона вмерзла в лед. К счастью, нож оказался на поясе под меховой одеждой. «Благодаря исключительной изворотливости», Травину удалось освободиться от ледяной хватки, но вся шерсть его комбинезона осталась во льду. На нем же осталась рваная, облезлая шкура, в которой он походил на «морское чудище», а «между комбинезоном, свитером и рейтузами образовался ледяной панцырь, что отчасти предохраняло от ветра».
Обувь пришла в полную негодность, подошва прорвалась у обоих носков. Травин, шел, ступая на лед голыми пальцами, - «снять и подвернуть что-либо не было возможности, ибо обопрелый камыс был настолько слаб, что расползался при малейшем прикосновении».
-- «Как результат первой борьбы с северной стихией,-- пишет Глеб Травин в своем сжатом, скупом и лишенном всякой рисовки письме, -- получаю обморожение ног и при первой встрече с людьми на островке (повидимому, на о. Долгом, В. И.) в ненецком обиталище, ампутирую сам себе оба больших пальца. Добродушный ненец предлагал мне поехать на оленях до стойбища в тундру, где бы я смог подкрепиться и немного залечить ноги, но я не согласился, стремясь скорее попасть на радиостанцию в Югорском Шаре».
Ненец дал путешественнику новые торбаза и короткую кухлянку. Смазав раны глицерином и забинтовав разорванным носовым платком, Травин двинулся дальше, неся на себе сломанный велосипед. В таком виде, в полярную ночь и пургу, он постучался в двери районной гидрометеорологической станции у восточного края пролива Югорский шар, вызвав упомянутую мной презрительную заметку журналиста из ОПТЭ.
3. «Голый странник»
Зимовщики отнеслись к велосипедисту очень заботливо. Врач радиостанции оказал ему медицинскую помощь. С особенной теплотой Травин вспоминает о механике радиостанции, который «принял всемерное старание в части ремонта» сломанного велосипеда.
Пока Глеб Травин чинил свой велосипед и помороженные ноги, наступила весна. Лето 1930 года было мало-ледовитым в южной части Карского моря. Травин увидел, что если ждать, пока оно замерзнет, пройдет половина зимы. Он явился на ледокол «Ленин», возглавлявший Карскую экспедицию, и попросил переправить себя через открытую воду.
Начальник морской части карской экспедиции, Н. И. Евгенов, узнав о намерении велосипедиста проехать вдоль полярного побережья Сибири до мыса Дежнева, стал его отговаривать от этого отчаянного предприятия.
-- Нет, -- ответил Травин. -- Я решил пройти и пройду.
Евгенов встал, пожимая плечами.
-- Никто еще не проходил зимним путем и четверти пути, который вы вздумали преодолеть да еще с велосипедом, -- продолжал он, шагая по палубе своей каюты. -- Чтобы пройти и описать северные берега Сибири, Великой северной экспедиции 18-го века, потребовались огромные средства и большое количество участников, некоторые из которых погибли. Знаменитый путешественник Мидендорф также едва не погиб, пересекая Таймыр. В 1919 году от гавани «Мод», лежащей чуть восточнее мыса Челюскина, вышли два участника экспедиции Амундсена, имевшие поручение доставить почту с места зимовки экспедиции. Главной их задачей было пройти, с нартами и собаками, вдоль западного берега Таймыра до радиостанции острова Диксона. Оба они погибли. Впоследствии известный полярник, боцман «Зари», Бегичев, нашел труп одного из них и почту Амундсена в 3-4 километрах от радиостанции о. Диксон, а кости второго трупа были найдены значительно севернее, в золе от большого костра. Неизвестно, какая трагедия разыгралась здесь.
Начальник Карской экспедиции закурил дорогую папиросу и предложил велосипедисту. Тот отказался. Путешественник импонировал моряку, но и раздражал своей упрямой дерзостью.
-- Только датская этнографическая экспедиция в арктическую Америку 1921-1924 годов, так называемая «Пятая экспедиция Туле», может сравниться, по длине пройденного пути, с задуманным вами путешествием. Может быть, вы хотите искать страну Туле? -- усмехнулся ученый.
Травин скромно молчал.
-- Вот, вы даже не знаете истории полярных исследований. В 1910 г. Кнуд Расмуссен, вместе с не менее известным датским полярным исследователем и писателем Петером Фрейхеном, построили научно-исследовательскую станцию на мысе Йорк, в Гренландии. Эта станция, тогда самая северная в мире, была названа по имени «страны Туле», открытой греческим астрономом и географом Пифеем, в IV веке до нашей эры, на севере Европы. Вероятно, это была Норвегия, хотя Пифей говорит, что Туле лежит в расстоянии всего дня пути от «свернувшегося моря», т.-е. от моря, покрытого льдом. С тех пор Расмуссен стал называть свои экспедиции «экспедициями Туле». Во время пятой экспедиции он прошел от Гудзонова залива до Берингова пролива, т.-е. весь «Северозападный проход». С ним были, не считая собачьих упряжек, три спутника, в том числе, одна женщина. Они потратили на свой поход четыре года. А вы мечтаете пройти более суровый «Северовосточный проход» в одну зиму!
-- Раз они прошли вдоль берегов Америки, почему бы мне не сделать этого в Сибири? -- сказал Травин. Он улыбнулся. -- Велосипед, по-моему, лучше собак. Его не надо кормить.
-- Представляете ли вы опасности, которые вам предстоят! -- закричал Евгенов.
-- Если вы не перевезете меня через Карское море, мне придется переезжать его па велосипеде, а это, действительно, опасно, -- заметил Травин.
Начальник экспедиции махнул рукой. Он не привык попусту терять время. Видя бесполезность своих слов, он взял с велосипедиста подписку, что ему действительно «известны все затруднения», с какими он может встретиться на пути, и обещание не огибать Таймыра пустынным берегом моря, а идти напрямик, с тем, чтобы выйти к поселку в устье Хатанги. Травин согласился, испугавшись, что в противном случае ему вообще не разрешат двигаться дальше.
Через несколько дней Евгенов высадил Травина на берегу острова Диксон, близ радиостанции.
Авиатор Б. Г. Чухновский, участвовавший в ледяной разведке той же Карской экспедиции 1930 года, показал мне впоследствии фотографию, сделанную им самим, изображавшую Глеба Травина вместе с его велосипедом и кожаной курткой на фоне тундры и знакомых россыпей камней острова Диксон. Глеб Травин стоял в той же позе, в какой я видел его на льдине, у борта «Лейтенанта Шмидта».
Последние корабли карской экспедиции ушли по зеленым волнам моря, на которых в то лето не сверкало ни одной льдинки. Улетели аэропланы. Потемнели ночи. Вспыхнули северные сияния. Мороз сковал узкий пролив, отделяющий остров Диксон от материка. Когда тонкий лед стал достаточно крепок, Травин простился с зимовщиками радиостанции и поехал на велосипеде вдоль берега Ледовитого моря.
Здесь, от мыса Северо-восточного до Пясины, берег тянется почти прямо на восток. «Вступив на Таймырскую землю», Травин получил, по его словам, «боевое крещение». Через Пясинскую дельту ему пришлось переходить по только-что застывшему льду. Ехать на велосипеде из-за сильного ветра было невозможно. Он шел рядом с велосипедом, уложив на него большую часть груза и привязав к раме веревку, другим концом которой опоясал себя.
На средине русла лед стал значительно тоньше. Травин шел, осторожно держа велосипед подальше от себя, чтобы занять возможно большую площадь своим весом. Несмотря на исключительную предосторожность, лед все-таки провалился и велосипедист весь погрузился в воду.
-- «Течением тащит под лед. К счастью, упавший на бок велосипед оказался на льду. Пользуясь предохранительной веревкой, стараюсь выбраться, но лед не держит и продолжает ломаться. Одежда быстро промокла. Стараясь облегчить себя, я сбрасываю свои доспехи - фотоаппарат с принадлежностями и приборы для метеорологических наблюдений, которые были укреплены на одном ремне, через плечо. Все это падает не на лед, а в воду, так как руки начинают уже замерзать. Напрягаю все силы и, ухватившись за велосипедное колесо, вылезаю на кромку льда. До обоих берегов было одинаково далеко, поэтому решил продвигаться вперед ползком, огибая прорубь и отпустив велосипед на более длинный буксир. Продвижение лежа, вплавь по льду, может представить только тот, кто сам испытал это. Я замерзал на ледяном ветру, выбравшись из воды, а когда добрался до противоположного берега, то жар преодолел холод и, упав на скопившийся под берегом снег, я прежде всего вынужден был утолить жажду. Отдохнув немного, я сбросил с себя одежду, чтобы выморозить, а сам закопался в снег, продолжая растирать оконечности тела».
Никто не видел его тогда, в пустыне, на берегу громадной застывшей реки, под ледяным огнем северного ветра.
А если бы увидел случайный промышленник, наверно умчался бы, разнося по тундре весть о «Голом страннике».
«Кто он? Наследие ль военных Жестоких лет, когда враги Зимою раздевали пленных И говорили им: беги! Иль, может быть, безумец гордый С природою вступивший в бой И подчинивший воле твердой Морозы, равно как и зной?» ⁷.
Есть ли в наши дни такая гордая поэтическая мечта, которая не превращалась бы в действительность?
4. Темир таба
Слушатели мои не выдержали и. воспользовавшись поэтической паузой, накинулись на меня с вопросами.
-- Как долго полз Травин по льду?
-- Сколько времени нужно, чтобы высушить на морозе промокшую одежду?
-- Неужели он сидел голый в снегу?
-- Почему он не развел костра?
Что я мог ответить, кроме того, что Пясина в устье -- громадная река, что леса на ней нет, а, значит, нет и плавника, что «вымораживание» -- всегда очень медленный процесс, а для того, чтобы передать размышления голого человека, дожидающегося своей одежды, зарывшись в снегу, надо, пожалуй, самому проделать такой же рискованный опыт?
У меня был только краткий перечень событий, составленный Травиным. «Я чувствую, -- пишет он сам, -- что не даю полной картины, но ничего не клеится».
Не раз отмечали, что большинство наших путешественников не умеют писать. В этом их главный недостаток. А какая бы замечательная вышла книга, если бы Травин мог описать полно, со всеми подробностями, свое путешествие вокруг Советского Союза.
-- Кончайте сперва, а потом спорьте! -- вмешался Вася Кудрин.
Любопытство мучило его и мы отложили дискуссию.
Путь через Таймыр Глеб Травин изображает полным приятных приключений. Недалеко от места своего «крещения», он нашел груду освежеванных оленьих туш. Здесь же были сложены оленьи шкуры. Наевшись, он отлично провел ночь, на этот раз не в снегу, а в теплых «постелях» ⁸ и, с рассветом, «бодро двинулся дальше, придерживаясь русла рек».
В зимнее время тундра высоких широт покрывается твердым покровом уплотненного ветрами снега, «убоем». Этот снег отлично держал велосипедиста. По берегам всюду встречались «пасти», самодельные ловушки для песцов. Вскоре на свежем снегу стали попадаться следы оленей, которые привели путешественника к чумам народа тундры, еще не откочевавшего на юг.
«Отсталый северный народ на голову выше высококультурных людей в смысле гостеприимства», -- пишет Травин, вспоминая, с каким трудом ему приходилось добывать себе пропитание на юге. -- «Отношение ко мне было самое заботливое, где бы я ни появлялся среди этих людей».
Шаманы сказали, что дьявол пошлет мор на оленя и промысел будет плохой, если человек на железном олене погибнет в их тундре.
На пути Травин не раз встречал склады оленьих туш и шкур. Промысел на дикого оленя был удачным. Самоеды стреляют диких оленей осенью, при переправе их через реки. Когда снег начинает затвердевать, олени стадами уходят в тайгу, в поисках рыхлого снега, позволяющего откапывать корм.
На каждого охотника приходилось по 200-250 штук. Захватив с собой столько, сколько они могли взять, охотники оставляли большую часть добычи прозапас, а вернее -- на корм полярным волкам и другим тундровым хищникам. Встречались и целые склады-караваны выставленных в ряд нагруженных нарт, оставленных близ мест летнего промысла и кочевок. Здесь можно было найти все необходимое для жизни, начиная от шкур оленей и готовой одежды и кончая оружием с запасом патронов. Еще чаще встречались «ледовки», одиночные самоедские погребения, со всем скарбом покойника. Словом, тундра оказалась вовсе не такой пустынной, какой она представлялась раньше.
Наступала полярная ночь. Солнце показывалось на юге только в полдень, красное и холодное. Медленные сумерки снова сменялись темным небосводом; но полярная ночь была всегда насыщена мягким светом, собранным бескрайним зеркалом снежных просторов. Путь освещали необыкновенно яркие звезды, похожие у горизонта на далекие костры кочевий. Почти непрерывные северные сияния развертывали светлую игру, охватывая своими пламенными драпри, мечами и туманностями все небо. Взошла луна и закружилась над тундрой, сияя и днем, и ночью, подобно незаходящему солнцу арктического лета. Наступили длительные безветрия, морозы еще не были жестоки. Травин шел, мечтая изобрести верный способ передать многочисленным комнатным жителям юга великую красоту Арктики.
-- «Невольно восхищаешься своим пребыванием», -- писал он. -- «Восторженности нет предела».
К тринадцатилетию Октябрьской революции путешественник достиг районного центра Хатанги, в устье реки того же названия. Председатель рика жил в тундре, выезжая в Хатангу, чтобы щегольнуть иногда своим городским костюмом. Травин, после одиночества в тундре, поехал за предриком, чтобы организовать празднование 7 ноября; но посредине дороги председатель раздумал и вернулся в свой чум.
-- Народ все равно не будет, -- заявил он.
Путешественнику пришлось проводить праздник, вместо предрика.
На собрание пришли не только жители Хатанги, но и кочевники. Человек с железным оленем, о котором от становища к становищу летели рассказы, долго говорил о том, как в одну ночь зимой те, у кого ничего не было, завладели шестой частью мира, о том, что в большом городе есть каменный чум, где лежит великий Ленин, о том, что его партия ведет народы на стройку нового мира.
-- Скоро, -- говорил пришелец, -- к вам придут корабли.
Он не ошибся. На Хатанге открыта нефть. Разведчики каждый год бурят грудь мерзлой тундры, выведывая ее сокровища, Северным морским путем, с запада и востока, к устью Хатанги плывут советские корабли.
На карте Глеба Травина его дальнейший путь изображен им вдоль берега Ледовитого моря. Черта идет от устья Хатанги к устьям Анабары и Оленека, затем круто поворачивает в море, огибает Сагастырь, сворачивает к Быкову протоку дельты Лены, где погиб Де-Лонг с частью экипажа «Джанетты», и, мимо бухты Тикси, в то время необитаемой, проходит в Усть-Янск. От Яны до Индигирки путь Глеба Травина пересекает тундру, вдоль обычного оленного «тракта».
О всем этом огромном участке, длиной около 2000 километров, пройденном в самое темное время года, Травин ничего не написал, повидимому, здесь с ним ничего не случилось, подобного купанью в Пясине, или вмерзанию в торосы близ Печоры. Он упоминает лишь, что в поселках, расположенных в устьях сибирских рек, ему везде «оказывали содействие». Затем он опять уходил в море, в одиночество. «И рад тому, что хоть след медведя найдешь и еще больше обрадуешься, когда удастся убить полярного богатыря и насытиться вдоволь».
В Верхоянске, в январе 1932 года, возвращаясь санным путем с зимовки «Лейтенанта Шмидта» у мыса Певек, в Чаунской губе, я встретил участников Индигирской экспедиции Наркомводтранса, которые рассказали мне, что Травин приехал в селение Русское устье ⁹ в начале 1931 года (на оленях) и жил там месяц или два месяца. В Русском устье ему дали собак и нарту. Он двинулся сперва на Колыму, «горой», обычным путем индигирцев, но где-то, довольно далеко от Русского устья, кажется, у горы «Северный парнас», свалился с обрыва и сломал нарту. Его нашли промышленники и вернули в Русское устье. Через несколько дней Травин снова выехал на восток, на этот раз морем.
Здесь можно упомянуть еще об одном забавном доказательстве пребывания Глеба Травина в Русском устье на Индигирке. В книге С. Абрамовича-Блэка «Записки гидрографа» ¹⁰ (стр. 221-222) читаем:
«Анимаида Селиверстовна Чихачева с детства (?!) вращалась в кругу «экспедиторов» и «проезжих людей», купцов и чиновников, изредка навещавших Русское устье.
Это было неотъемлемой привилегией самой красивой девушки Русского устья.
Чихачеву неоднократно фотографировали, дарили всегда ей конфеты и цветные платки, однажды. заразили гонорреей.
Несколько лет назад через Русское устье проезжал некий кругосветный путешественник на велосипеде, гражданин Листвин. Отважный, энергичный и бравый парень.
Всю Якутию, сквозь леса и тундры, проехал Листвин на своей машине, которую тунгусы окрестили «темир таба»¹¹ -- железный олень. Сидит на спине оленя, за рога держится.
Позднею осенью Листвин добрался до Русского устья. Познакомился здесь с Анимаидой, пленился и ее собою пленил. Молодая и пригожая пара повенчалась. Отлюбили молодожены в этой вот избе свой медовый месяц. Потом Листвин собрался продолжать путешествие. Как ни грустно было Анимаиде, отпустила она мил-дружка в славный путь. Обещала долго ждать, каждый день о нем только и думать.
Но всего лишь несколько километров отъехал от города¹² кругосветный путешественник.
Болезнь, не замеченная во-время, забралась глубоко в его организм. От тяжелой работы педалями почувствовал Листвин острую боль в паху. Захотел было себя пересилить, но свалился без чувств. У велосипеда безнадежной восьмеркой сплющились колеса, лопнула рама. Железный олень погиб вместе с наездником».
Вся эта страшная история, разумеется, сплетня, но она не могла бы возникнуть, если бы Травин, именумый Листвиным (у Абрамовича-Блэка все фамилии изменены) не побывал на Индигирке.
Выехав в море, Травин направлял свою нарту на отдаленные мысы, поднимавшиеся в ледяной пустыне. Так он достиг Медвежьих островов. Не заезжая в Колыму, он взял курс прямо на восток, пока ему не открылся высокий мыс Шелагский.
«На пути к Чаунской губе, -- рассказывает Травин, -- я убил старую белую медведицу. Длина снятой шкуры -- 6 шагов. Двух маленьких медвежат удалось взять живьем. В течение пяти дней медвежата были моими спутниками. Один из них, побольше, раньше примирился с обстановкой и начал брать мясо из рук и сосать палец. Но так как заниматься с обоими было довольно трудно, то, когда вышло все мясо, пришлось старшего убить, а младшего я притащил с собой на факторию мыса Певек. Мне хотелось отправить медвежонка на материк, но шаманы сказали, что за медвежонком уйдут все медведи и промысла не будет. Поэтому зав. факторией Семенов, который сначала обрадовался медвежонку, не захотел с ним возиться. Я же имел предположение двинуться на о. Врангеля и не мог взять медвежонка с собой. Пришлось его съесть.».
В чукотском селении, у мыса Шелагского, лежащего у восточного входа в Чаунскую губу, Травина видел учитель чукотской национальной школы, т. Форштейн, с которым я встречался потом в Нижне-Колымске и на пароходе «Колыма». В один из ослепительных морозных дней в палатку учителя вбежало несколько чукчанок, крича, что к селению под'езжает «эпопелин», то-есть поп. Они еще помнили миссионера, умершего несколько лет назад в соседнем селении, против острова Раутан. Учитель вышел встречать приезжего. К нему подошел высокий, атлетического сложения, молодой человек, с длинными, как у попа волосами. «Беглый», -- подумал маленький еврей, неприязненно глядя на гиганта, но тот мирно показал свой значок ОПТЭ и представился:
-- Путешественник вокруг света на велосипеде.
Велосипед, действительно, лежал на нарте, так-что путешественнику негде было сесть. Повидимому, он все время бежал вместе со своей индигирской упряжкой.
Учитель не решился пустить путешественника в свою палатку, так он был грязен, и предложил пыжиковый спальный мешок. Путешественник был в легкой кукашке поверх кожаной куртки. Он с улыбкой согласился переночевать в пустой холодной яранге. По его мнению, он давно не пользовался таким комфортом.
-- Между Хатангой и Оленеком, -- передавали мне его рассказ, несомненно украшенный легендой, -- меня застигла метель. Я шел пешком, таща за собой нарту, съедая в день по одной плитке шоколада. Метель свалила меня. Я заснул и меня занесло снегом, который от ветра стал твердым, как лед. Не знаю, долго ли я спал так или был без сознания под снежной застругой. Помню лишь, что проснулся я от приятного горячего дыхания. Мне показалось, что я лежу на мягком песке, на берегу речки, заснул, и вот солнце выглянуло из-за облаков и разбудило меня. Я открыл глаза. Белый медведь разгреб снег и сильно тянул воздух в черные ноздри, засунув голову в мою берлогу. Я закричал на него. Медведь ушел. Я отрыл нарту с моим велосипедом и пошел дальше.
-- Чем же вы занимались дорогой? -- спросил учитель. -- Я хочу сказать, вели вы какие-нибудь наблюдения, делали записи?
-- У меня есть минимальный термометр, -- ответил Травин. -- Я записываю температуру. Мне сказали, что минимальный термометр имеет большое научное значение.
Переночевав, путешественник поехал дальше, к мысу Дежнева, единственный путь к которому от мыса Шелагского лежит вдоль Чукотского побережья Ледовитого моря.
Мои товарищи рассказывали о Глебе Травине с улыбкой. Были и такие, которые вовсе не верили в его путешествие вдоль полярного побережья Евразии. В большинстве случаев скептиками были известные полярники, испытавшие силу арктических пург. Но можно ли было сомневаться в реальности его подвига? Травина видели, в течение шести-семи месяцев, в Югорском шаре, на Диксоне, в Хатанге, Русском устье, на мысе Шелагском, в Уэллене и никто не видел на Колыме, устье которой он объехал морем.
Другие считали, что велосипед служил ему всего лишь «бесплатным проездным билетом», что на самом деле его везли ненцы, эвенки, якуты и чукчи, а это не такое уж «достижение».
На прямо поставленный вопрос Травин ответил письмом, в котором подтвердил, что от Яны до Индигирки он ехал на оленях, так как велосипед был испорчен.
-- «В Русском устье, -- писал он, -- велосипед отремонтировали плохо, поэтому и решил взять с собой собак, рассчитывая на зимовку в любом месте. Выйдя в море, питался исключительно сырым мясом зверя, нерпы и рыбы, без соли и хлеба. Чай пил только тогда, когда был среди людей. В пути утолял жажду снегом и льдом.
Распорядок дня всегда держал один и тот же: еда в 6 часов утра и в 6 часов вечера, собак же, как обычно, кормил раз в сутки, перед ночным отдыхом. Когда долго не удавалось найти зверя, то и сам, и собаки по несколько дней были голодны.
Впрочем, имея собак, очень часто ехал в море на велосипеде. Измученные собаки бежали бодрее, догоняя меня по гладкому ледяному полю. Но когда попадались сжатия льдов, с нагроможденными ледяными дамбами, то здесь и мне, и собакам попадало больше, чем можно представить. Карабкаешься на одно нагромождение, а за ним второе, и так десятки километров тянутся ледяные горные цепи. Шум и треск льда все время заставляет настораживаться и быть готовым очутиться в трещине, нередко замаскированной снегом. В более опасное место вожатый собак никогда не пойдет, а продвигаться необходимо, остановиться -- значит отказаться жить.».
Нетрудно вообразить, как «попадало» Глебу Травину и его собакам, если вспомнить, что гряды торосов в море, между Колымой и мысом Шелагским, достигают высоты пятиэтажного дома.
Ледяные барьеры образуются на грани сжатия ледяных полей, когда одно из них давит на неподвижное (или медленно движущееся) другое поле. Так как глубина здесь невелика (около 20 метров), то разломанные и нагроможденные друг на друга края гигантских льдин быстро достигают такой общей толщины, что становятся на мель. На образовавшийся таким образом неподвижный ледяной остров продолжают надвигаться новые льдины. Достигая вершины, края их обламываются, низвергаясь в море, одна сторона гряды становится сравнительно пологой, а противоположная образует высокий неприступный обрыв.
На разломах таких ледяных хребтов ясно видно их слоистое образование, так как зеленые плиты морского льда отделяются друг от друга белыми полосками спрессованного снега. Иногда можно насчитать 20-30 таких слоев, в полметра, метр и больше толщиной.
Преодолеть подобные ледяные преграды, даже с собачьей упряжкой, почти невозможно, их приходится об'езжать, в поисках более ровного льда, десятки километров.
Вместе с торосами сравнительно недавнего, слоистого, образования в море, к востоку от Колымы, постоянно встречаются не менее мощные многолетние льды, принесенные холодным течением из центральных областей Арктики. Льды эти, по большей части, чистого голубоватого цвета, однородные и спрессованные настолько, что в них почти нет пузырьков воздуха. Твердость и прочность их так превосходит свойства обычного льда, что колымские жители, по словам Фердинанда Врангеля, считали, будто они не плавятся даже в огне и созданы при самом «сотворении мира». Врангелю пришлось разубеждать своих проводников, растопляя в котле куски такого льда, дающего вкусную, совершенно пресную воду.
Едва ли не худшими для путешественника являются, впрочем, не эти высокие ледяные нагромождения, а торосистые толя, покрытые острыми, хаотически нагроможденными льдинами, между которыми набивается рыхлый снег. В таких местах Глеб Травин принужден был шагать впереди собак, неся на себе велосипед, так как его нельзя было укрепить на нарте, без риска сломать о первую льдину.
Приходится пожалеть, что Травин не вел в пути необходимых научных наблюдений, и что никто из встречавшихся с ним не побудил его к этому. Между тем, он мог бы определить, по крайней мере, расположение ледяных хребтов, указывающее направление нажима, силу и направление течений в полыньях и т. п. Подобные наблюдения представляли бы несомненный интерес, так как район, где был Травин, судя по его запискам и карте, никто не посещал зимой, со времени поисков «Земли Андреева», более ста лет назад.
На одном из Медвежьих островов, лежащих против устья Колымы, Травин видел остатки разрушенных строений, упоминаемых многими путешественниками и до него. Еще в 1720 году промышленник Иван Вилегин нашел здесь «старые юрты и признаки, где прежде юрты стояли». В 1924-1925 г. у острова Четырехстолбового, принадлежащего к группе Медвежьих островов, зимовала экспедиция Амундсена, на судне «Мод». Участник ее, норвежский ученый Г. У. Свердруп, обнаружил здесь курганы, каменные наконечники гарпунов и другие предметы первобытной культуры.
«В 1920 г., -- пишет Свердруп, -- я имел случай видеть такие курганы на о. Айоне, при чем я тогда нашел черепки примитивной кухонной посуды, каменные ножи и обожженные кости. По всей вероятности, это следы племени, отличного от современных чукчей». ¹³
Однако, почва на острове Айоне и нa острове Четырехстолбовом была такая мерзлая, что Свердруп не мог раскопать ни одного кургана. Но и до сих пор курганы остаются нераскопанными.
Надо надеяться, что с построением на Медвежьих островах радиостанции Главного управления Северного морского пути, завезенной в 1933 г. «Лейтенантом Шмидтом», научные сотрудники станции, под руководством специалистов, займутся выяснением вопроса, являются ли остатки древнего строительства на Медвежьих островах и Айоне признаками неизвестных обитателей этих островов или народа, вытесненного с материка завоевателями или старинными охотничьими зимовьями туземцев, подобно избам русских и якутов на Новосибирских островах.
В декабре 1931 г., в Нижне-Колымске, один промышленник рассказал мне, видимо со слов жителей фактории мыса Певeк, где он был, что Травин «наехал далеко в море на следы нарт». В этом не было бы ничего заслуживающего внимания, если бы не напоминало историю сержанта Андреева, посланного по приказу сибирского губернатора искать землю, лежащую, по рассказам чукчей, к северу от их земли. «Есть же особая земля, на коей живут весь женский пол, а плод имеют от морской волны и рождаются все девки».
В 1763 и 1764 годах Андреев ездил в море по льду на поиски этой земли из Нижне-Колымска. С Медвежьих островов Андреев будто бы увидел далеко в море землю и поехал к ней, но возвратился, наткнувшись на следы нарт и оленей, которые счел принадлежащими заморским «девкам» или другому неведомому и страшному народу, «единственною пищей коим служит снег».
Возможно, как полагает профессор Визе 14, что известие это было приписано Андрееву, но нет ничего невероятного в том, что он действительно видел «землю» и тем более следы. На мокром, пропитанном морским рассолом, снегу отпечатки полозьев замерзают и сохраняются годами. Прибрежные льдины с такими следами может унести в море очень далеко.
Во время одной из поездок по льду, предпринятой правительственной экспедицией под начальством Врангеля для поисков «Земли Андреева», путешественники встретили в море льдину со своими же прошлогодними следами, отнесенную почти на 90 километров к востоку. Затем участники экспедиции увидели желанную землю, появившуюся на северо-восточной части горизонта.
«Чем далее ехали мы, тем явственнее становились замеченные нами возвышения и скоро приняли они вид недалекой гористой страны, -- писал Врангель. -- Холмы резко окраились; мы могли различать долины и даже отдельные утесы. Все уверяло нас, что после долгих трудов и препятствий открыли мы искомую землю. Но наша радость была непродолжительна и все прекрасные надежды наши исчезли. К вечеру, с переменой освещения, наша «новооткрытая» земля подвинулась по направлению ветра на 40 градусов, а через несколько времени охватила она весь горизонт, так что, казалось, мы находились среди огромного озера, обставленного скалами и горами». ¹⁵
Подобные явления нередки в Арктике. Истинные размеры предметов и расстояния искажаются: в книгах полярных исследователей можно найти рассказы о том, как маленькую чайку принимали они за моржа, собаку -- за медведя и т. п. Травин застрелил однажды белую сову, в полной уверенности, что целился в «огромного белого богатыря». Отдаленные льдины, растянутые рефракцией, кажутся высокими холмами, гряда зубчатых торосов могла представиться гористой страной.
Впрочем, не исключена возможность, что миражи, виденные Андреевым и Врангелем, были отражением настоящей земли. Известен случай, когда один из вулканов Японии был виден с парохода, находившегося у берегов Приморья. Расстояние здесь было, примерно, таким же, на какое Врангель приближался к острову, местоположение которого впервые было нанесено им на карту и получившему впоследствии его имя.
Фантастическая «Земля Андреева» до сих пор отмечается на картах, в районе скопления льдов, не посещенном еще ни одним судном, -- к западу от острова Врангеля. Каждый новый поход, в особенности экспедиция на ледоколе «Красин» в 1934 году, убеждает нас, что этой земли, повидимому, не существует. Но человек не успокоится, пока не проникнет в последнее «белое пятно» своей планеты. Окончательный ответ принадлежит, очевидно, советской авиации.
5. К острову Врангеля
«Торосы становились все выше и плотнее, а между ними лежали огромные бугры рыхлого наносного снега. Мы нагрузили сани наши как можно легче и взяли с собой только на пять дней провианта и несколько дров. Сильный западный ветер, затемнявший воздух метелью, не позволил нам, однако же, предпринять немедленно путешествие к северу. Ночью на 18-е число ветер перешел к WNW ¹⁶, постепенно крепчая, превратился в шторм и разломал около нашего лагеря лед. Мы очутились на большой льдине, сажен пятьдесят в поперечнике. От сильного ветра лед с шумом трескался, щели расширились и некоторые простирались до 15 сажен ширины. Льдина, на которой находились мы, носилась по морю. Так провели мы часть ночи, в темноте и ежеминутном ожидании смерти.
Наконец наступило утро и ветер сплотил нашу льдину с другими.
Первым занятием нашим было осмотреть окрестности и изыскать средства к продолжению пути. Торосы, находившиеся на северном краю щели, были, повидимому, прежнего образования и казались нам менее круты и плотны, а потому надеялись мы проложить себе между ними дорогу далее к северу. Но проникнуть туда не было иного средства, как только переехать по тонкой ледяной коре, покрывавшей щель. Мнения моих проводников были различны. Я решился на сие предприятие, и при невероятной скорости бега собак, удалось нам оно лучше, нежели мы ожидали. Под передними санями лед гнулся и проламывался, но собаки, побуждаемые проводниками, и чуя опасность, бежали так скоро, что сани не успевали погружаться в воду, и, быстро скользя по ломавшемуся льду, счастливо достигли до противоположного края.
Марта 23 продолжал я путь на двух нартах, не столько в надежде на успех, сколько для собственного успокоения, и исполняя все зависевшее от наших усилий и обстоятельств. До полудня было ясно, и тихо, но к вечеру ветер усилился, небо покрылось тучами и по всему протяжению горизонта от NW до NO подымались густые темно-голубые испарения -- непреложное доказательство открытого моря.
Мы видели совершенную невозможность проникнуть далеко на север, но, несмотря на то, продолжали путь. Отъехав девять верст, встретили мы большую щель, в самых узких местах до 150 сажен шириной. Она простиралась на O и на W до краев видимого горизонта и совершенно преграждала нам путь. Усилившийся западный ветер более и более расширял сей канал, а быстрота течения в нем, на восток, равнялась 11/2 узла. Мы влезли на самый высокий из окрестных торосов, в надежде найти средство проникнуть далее, но, достигнув вершины его, увидели только необозримое открытое море. Величественно ужасный и грустный для нас вид!
На пенящихся волнах моря носились огромные льдины и, несомые ветром, набегали на рыхлую ледяную поверхность, по ту сторону канала лежавшую. Можно было предвидеть, что сила волнения и удары ледяных глыб скоро сокрушат сию преграду, и море разольется до того места, где мы находились. Может быть, нам удалось бы по плавающим льдинам переправиться на другую сторону канала, но то была бы только бесполезная смелость, потому что там мы не нашли бы уже твердого льда. Даже на нашей стороне, от ветра и силы течения в канале, лед начал трескаться, и вода, с шумом врываясь в щели, разрывала льдины и раздробляла ледяную равнину. Мы не могли ехать далее.
С горестным удостоверением в невозможности преодолеть поставленные природой препятствия, исчезла и последняя надежда -- открыть предполагаемую нами землю, в существовании которой мы уже не могли сомневаться. Должно было отказаться от цели, достигнуть которой постоянно стремились мы в течение трех лет, презирая все лишения, трудности и опасности. Мы сделали все, чего требовали от нас долг и честь. Бороться с силою стихии и явной невозможностью было безрассудно и еще более -- бесполезно. Я решился возвратиться.
Положение места, откуда принуждены мы были возвратиться, было под 70o 51' северной широты и 175o 27' долготы, в 150 верстах по прямой линии от берега, скрытого от нас туманом. Глубина моря была 221/2 сажени, на илистом грунте.
Мы поехали по прежней дороге и, несмотря на то, что должны были обходить многие вновь образовавшиеся щели, в короткое время проехали 35 верст и остановились на ночлег среди торосов. Здесь лед также был исчерчен во всех направлениях трещинами, но ветер приметно стихал и они уже не казались нам опасными.
На другой день, рано поутру, отправились мы далее, при легком западном ветре и 171/2 мороза. Были причины спешить. Проложенная нами дорога во многих местах загромождалась торосами и все доказывало, что во время нашего отсутствия вся сия ледяная поверхность находилась в движении. Через многие широкие трещины, неудобные для обхода, должны мы были переправляться на льдинах. Иногда они были так малы, что не могли поместить на себе нарт со всей упряжкой; мы сталкивали собак в воду и они переплывали на другую сторону, таща за собой льдину с нартой. Сильные течения делали подобные переправы нередко весьма опасными. В одной из трещин, недалеко от нашего последнего склада с провиантом, стремление воды по направлению OSO равнялось четырем милям в час. Температура воды была здесь 13/4o, а воздух -- 10o холода.
После многих трудных и опасных переходов, поздно вечером достигли мы нашего склада с провиантом, куда за день перед тем прибыли уже две нарты, отосланные нами прежде. Все зарытые нами припасы нашлись в целости.
Едва проехали мы три версты, проложенная нами сюда дорога совершенно исчезла. Огромные торосы и вновь образовавшиеся щели преградили нам путь, так что для облегчения принуждены мы были бросить часть груза. Но и сия жертва не принесла нам большой пользы. Подвинувшись еще версты две, мы совершенно потеряли надежду проникнуть далее. Полыньи простирались по всем направлениям. К западу виднелось открытое море с носившимися на нем льдинами. Густые пары затемняли небосклон. К югу от нас лежала ледяная поверхность, составленная из больших льдин, прижатых одна к другой, но туда не было возможности попасть.
Отрезанные от всякого сообщения с твердым льдом, со страхом ожидали мы наступления ночи. Только спокойствию моря и ночному морозу обязаны мы были здесь спасению. Слабый NW ветер понес льдину, где мы находились, к востоку и приблизил ее к твердому льду. Шестами притянули мы небольшие льдины, вокруг нас плававшие, и составили из них род моста. Мороз скрепил льдины до такой степени, что они могли нас сдерживать. Работа была кончена 27 марта, до восхода солнца; мы поспешили покинуть нашу льдину и счастливо переправились на твердый лед. Проехав версту по SO направлению, увидели мы себя снова окруженными полыньями и щелями, при невозможности продолжать путь. Находясь на льдине огромнее других, нас окружавших (она была до 75 сажен в поперечнике), и видя все непреложные признаки приближающейся бури, решились мы остаться здесь на месте и предаться воле Провидения.
Скоро показались предвестники наступавшей непогоды. Темные тучи поднялись с запада и густые пары наполнили атмосферу. Внезапно поднялся резкий западный ветер и вскоре превратился в бурю. Море сильно взволновалось. Огромные ледяные горы встречались на волнах, с шумом и грохотом сшибались и исчезали в пучине; другие с невероятной силой набегали на ледяные поля и с треском крошили их. Вид взволнованного полярного моря был ужасен.
В мучительном бездействии смотрели мы на борьбу стихий, ежеминутно ожидая гибели. Три часа провели мы в таком положении. Льдина наша носилась по волнам, но все еще была цела. Внезапно огромный вал подхватил ее и бросил на твердую ледяную массу. Удар был ужасен. Оглушительный треск раздался под ногами и мы чувствовали как раздробленный лед начало разносить по волнам. Минута гибели нашей наступала. Но в это роковое мгновенье спасло нас врожденное человеку чувство самосохранения, невольно бросились мы в сани, погнали собак, сами не зная куда, быстро полетели по раздробленному льду и счастливо достигли льдины, на которую были брошены. То был неподвижный ледяной остров, обставленный большими торосами. Мы были спасены».
-- Я прочитал вам этот отрывок из описания поездки, совершенной в марте 1823 года Фердинандом Врангелем, чтобы вы составили себе некоторое представление о дрейфующих льдах, по которым Травин двинулся к востоку, покинув мыс Шелагский, и вместе с ним теплый пыжиковый кукуль учителя Форштейна.
Наступала арктическая весна. Солнце все выше поднималось надо льдами. Солнечный свет радовал путника, но в то же время весна создавала и новые препятствия. Лед местами отошел от берега. Начала образовываться береговая прогалина.
«Во избежание частого купанья», выражаясь языком Травина, он в третий раз удалился в пустынные льды моря. Высокие торосы закрыли берег. Он не боялся ни великого их молчания, ни внезапного грохота. Пурга и солнце были одинаково враждебны. Он плутал в лабиринте льдов, ничего не видя в метущихся струях норд-веста, чтобы выбраться в сверкание и тишину непрерывных надледных озер, образовавшихся от тающего снега.
«Слой воды на льду, запорошенный снегом, достигал местами 30-40 сантиметров, а дальше стал доходить до одного-полуторых метров глубины. Здесь форменным образом приходилось переплывать, таща за собой груз. Выбравшись на сухой лед, раздеваюсь, проветриваю вымокшую одежду и двигаюсь дальше. От мыса Биллингса делаю попытку держать курс на остров Врангеля».
-- Не будем судить, где кончается доблесть и начинается безрассудство. Вот, вчера кончился инспекторский смотр одной из частей Красной армии. Отделению надо было переплыть протоку «при полной нагрузке». Командир понадеялся на свои силы и поплыл в сапогах. Посредине протоки он стал ослабевать и вдруг исчез. На берегу закричали; но через минуту пловец показался близ того же места, сапоги торчали за плечами и даже портянки были всунуты в голенища. Он легко проплыл положенную дистанцию. Корреспондент «Красноармейской звезды» и фотограф кинулись к нему.
-- Чего лезете? -- возмутился тот. -- Просто, сел на камушек в речке и сдернул сапоги. Чего особенного?
Попробуй, тронь таких людей!.
Остров Врангеля издавна пользовался репутацией «легко видимого, но трудно достижимого». Чукчи, рассказавшие Врангелю о существовании земли к северу от чукотского побережья, «утверждали, что сами видели ее, в ясные летние дни с места, называемого Якан»¹⁷. Чукотский старшина, Камакай, считал, что горы, видимые через пролив, принадлежат одному из выдающихся мысов этой земли, по его мнению обширной и обитаемой, так как в прежние времена оттуда приходили стада оленей, но Врангель не мог проверить его слов.
Еще рассказывал Камакай, что один чукча отправился на эту северную землю, но никто не знает, вернулся ли он. Чукчи селения, находящегося у мыса Рыркарпий ¹⁸, также сообщили Врангелю несколько преданий о людях, скрывшихся туда. Вождь «анкилонов», Кряхай, убил чукотского старшину Эррима и, спасаясь от мести сына Эррима, уплыл в незнакомую землю со всеми родственниками, на 15 байдарах. Одна женщина будто бы даже вернулась с острова, рассказав о страшных диких людях, населяющих его. Все это -- вымысел, так как впоследствии на острове Врангеля не было найдено никаких следов прежних обитателей, но характерно, что во всех преданиях чукчи отправлялись на остров летом, на байдарах, когда море было свободно от льда.
Достижение неведомой земли, горы которой чукчи видели со скал Якана, по льду они, очевидно, считали невозможным даже в сказках.
Сам Врангель, как известно, не достиг острова, а только правильно нанес его местоположение на карту, со слов чукчей. Не достиг острова и спутник Врангеля, Матюшкин, пытавшийся проникнуть туда из района мыса Якан, ибо «огромные полыньи со всех сторон пересекли ему дорогу по морю, так-что после многих тщетных попыток он принужден был обратиться назад, удалившись от берега не более, как на 16 верст».
В 1867 году, в навигационное время, почти безледное на востоке, китобой Томас Лонг, на судне «Найл», прошел вблизи южного берега острова, определив положение юго-восточной и юго-западной его оконечностей. Он и назвал остров «Землей Врангеля», в честь путешественника, доставившего о нем первые сведения, а пролив между островом и материком получил название пролива Лонга. Льды этого пролива, многолетние и торосистые, приносимые холодными течениями и северными ветрами, пользуются едва ли не худшей репутацией на всем северо-восточном пути.
В зимнее время здесь образуется у берега лишь узкий припай неподвижного льда, остальное пространство моря покрыто дрейфующим льдом, подверженным страшным сжатиям и образующим громадные ледяные барьеры.
Кроме экспедиции Врангеля, известны несколько попыток перейти пролив Лонга в обратном направлении, с острова на материк. В 1913 году шхуна «Карлук» Вильямура Стефансона была затерта льдами у берегов Аляски и отнесена в район острова Врангеля. Здесь «Карлук» был раздавлен льдами и затонул. Часть людей из экипажа погибла по время перехода по льду, часть добралась до острова. Группа из четырех человек отделилась от остальных, решив итти к берегам Сибири, и погибла в пути. Через десять лет, при аналогичной попытке, погибла другая группа американцев, ушедших с острова Врангеля в январе 1923 года. Умерли ли они от истощения, холода и голода, или были задушены пургой, утонули, провалившись в запорошенную снегом трещину, или были заживо погребены одним из тех ледяных валов, которые потом не раз наблюдали челюскинцы в «Лагере Шмидта», во время сжатия ледяных полей, -- никто никогда не расскажет нам. Только капитан «Карлука», Бартлетт, с одним спутником, гонимый смертью, достиг зимой 1914 года мыса Северного и спас тем самым оставшихся на острове. Но то был Бартлетт, спутник Пири в его путешествиях к северному полюсу.
Вот почему, когда через 20 лет после «Карлука», в том же море затонул «Челюскин», участники экспедиции предпочли мужественное ожидание помощи Советской страны походу по льду, так как такой поход могли бы выполнить только немногие, самые сильные и опытные из них.¹⁹
Посредине пролива Лонга Глеб Травин встретил открытую воду.
«Наконец, разломанный лед и открытое море перерезали ему дорогу. Здесь был он свидетелем явления, возможного только в полярных странах, с которым обыкновенный ход льда на самых величайших и быстрейших реках не имеет никакого подобия. Ледовитое море свергало с себя оковы зимы; огромные ледяные поля, поднимаясь почти перпендикулярно на хребтах бушующих волн, с треском сшибались и исчезали в пенящейся пучине, и потом снова показывались на изрытой поверхности моря, покрытые илом и песком. Невозможно представить себе что-нибудь подобное сему ужасному разрушению. Необозримая, мертвая, одноцветная поверхность колеблется, ледяные горы, как легкие щепки, возносятся к облакам; беспрерывный громовой треск ломающихся льдин смешивается с плеском бушующих волн, и все вместе представляет единственную в своем роде, ни с чем несравнимую картину. Итак, путь на север был отрезан.» ²⁰.
Травин оставался несколько дней на краю льда, не желая сдаваться сразу, ибо туман и пурга мешали ему ориентироваться. Дождавшись хорошей видимости, он убедился, что противоположный край льда, едва заметный в подзорную трубу, недосягаем для него, и повернул на восток, мечтая изобрести приспособление, с помощью которого можно было бы плавать на велосипеде по воде.
-- Если, например, укрепить между рамой достаточной величины прорезиненный баллон, надуваемый при надобности, и приспособить к заднему колесу маленькие гребные лопасти, то можно было бы справиться с полыньями.
Треск льда прерывал его мечтания. Ледяное поле, по которому он двигался, отошло от берега и только ледовитый норд-вест, господствовавший в тот год, помог ему выбраться на сушу.
-- «Правда, не обошлось без холодной ванны»,-- лаконично заканчивает он свои записки.
Добравшись до Уэллена, Травин соорудил на мысе Дежнева каменный знак «в память северного перехода», -- единственная его дань тщеславию. Там, под камнями, он положил отслужившие свой срок велосипедные покрышки и, в согласии с полярными традициями, краткую записку о своем пути. Но он не думал почить на лаврах. Тысячи километров, пройденные на велосипеде, он считал лишь началом путешествия. Как я говорил, в Уэллене он добивался разрешения на выезд в Америку. Он посылал телеграммы в Москву и в Петропавловск-на-Камчатке. Для полного удовлетворения ему надо было проехать вдоль западного берега Америки, обогнуть Огненную землю, пересечь Сахару и Аравию, побывать в Индии и Китае, завернуть в Тибет и Монголию и тогда только, по Чуйскому тракту, вернуться в Сибирь.
Не знаю, дошли ли его московские телеграммы по назначению, но из Петропавловска ответ пришел скорый и решительный. Ему предложили сесть на первый пароход Чукотско-Анадырского рейса и вернуться к своей исходной точке -- в Петропавловск-на-Камчатке.
«Путешественник вокруг света на велосипеде» не вернулся на свою родину. Его одинокий подвиг никем не был прославлен. Травин остался у берега океана, однажды поманившего его в путь. Он остриг свои длинные волосы, снова отказался от разных должностей, которые ему предлагали, и поступил монтером в электростанцию. Он ударник. Женился. Теперь в Петропавловске растет еще один маленький Травин.
Но неудачи, непризнание, семья -- все это только передышка.
«Утро морозное, -- писал он мне с берега Авачинского залива, -- днем прекрасная видимость. Бухта слегка волнуется. Взломанные береговые льды сгруппировались у ворот. Чикает лесопильный завод, выбрасывая стройматериал. Трактора, тарахтя, подбирают перегруженные сани и напряженно тащат на стройку, по обледенелому камчатскому шоссе. Воют загруженные автомашины. Всюду кипит жизнь, все торопятся воспользоваться солнцем. Но не надолго. В конце дня пурга и слякоть -- предвестие передышки на несколько дней. Завывание ветра грустно наводит на размышления. Вспоминаю одиночество и трудности северного пути и невольно успокаиваюсь тем, что после ненастья и в Арктике наступает иногда чудесная погода. Так и моя передышка должна прекратиться и вновь двинусь, после полярного перехода -- к экватору, с тем, чтобы преодолеть еще несколько препятствий. Силы воли и настойчивости хватит, а желания еще больше, чем это было при первом выезде».
-- Вот и все, что я могу рассказать о Глебе Травине, ничего не прибавив к тому, что я знаю.
----------------
Через два года несколько участников похода «Лейтенанта Шмидта» встретились снова. Великая сила большевистского наступления поднимала гигантские цеха заводов, добывала расплавленный металл из заброшенных горных руд, вела корабли вокруг Арктики, тянулась в стратосферу, к звездам.
Мой товарищ рассказывал о клепальщиках Кузнецкстроя, не уходивших с суровой высоты доменных лесов в пятидесятиградусные морозы.
-- Где теперь Глеб Травин? -- вспомнил один из нас.
Передышка его затянулась. Он работает сейчас инструктором в Камчатском областном Осоавиахиме, и начинает жаловаться, что его «маринуют».
-- «Предполагал нынче выехать на материк, -- написал он мне, -- но по службе не отпускают. Мечтаю попасть на мировую спартакиаду 1935 года. Успешно сдаю нормы на значок ГТО второй ступени. Все еще питаю надежду получить разрешение на дальнейшее путешествие, но добиться этого, живя на Камчатке, трудно, нужна помощь, а ее-то здесь и нет. Пока же, на практических примерах выполнения планов социалистического строительства, буду драться за дальнейший маршрут. И если это осуществится, то буду вести дневник, собирать материал, что даст более красочную картину всего пройденного, того, на что способны пролетарские сыны советского государства».
-- Видно, что парень свой, -- сказал мой товарищ, не зная, как выразить свою мысль. -- В канцеляриях сидеть не любит.
Над электрическими огнями новых улиц поднималась луна, холодная, как за полярным кругом.
-- Как там ни говорите, а такое приключение возможно только у нас. Фактория, советы, радиостанции севера всюду поддержали Травина и помогли ему. Без них он зазимовал бы в первом поселке. Разве можно представить, чтобы какой-нибудь «тунгусник», этот хозяин тундры -- «доброго старого времени», отдал ему свою нарту? Я хочу сказать, никогда еще в нашей стране не было такого простора смелой инициативе и никогда еще коллектив не поддерживал ее так, как сейчас.
Путешествие с минимальным термометром не принесло, конечно, новых научных данных. Этнографические наблюдения Травина также не оригинальны. Но позволительно отдать должное горячему сердцу, легким, не знавшим простуды, закаленным мускулам и крепкой воле, частице несломимой воли восставшего из небытия класса.
------------------
Примечания
¹ кавасаки -- мореходные катера японского типа.
²камлейка -- длинная рубашка с капюшоном, надевающаяся поверх меховой одежды для защиты от снега и ветра, обычно из пестрого тика или сатина; для охоты используются белые камлейки, «защитного» цвета.
³ стамухи -- льдины, стоящие на мели.
⁴ ОПТЭ -- Общество пролетарского туризма и экскурсий (1930-1936гг.).
⁵ Слова в кавычках здесь и в дальнейшем написаны самим Травиным.
⁶ ВСФК – Высший совет физической культуры.
⁷ Леонид Мартынов. «Голый странник». «Сибирские огни». № 6, 1925 г.
⁸ постель - шкура взрослого оленя.
⁹ Русское устье -- районный центр близ устья Индигирки.
¹⁰ С.И.Абрамович-Блэк. Записки гидрографа. Книга первая. Издательство писателей в Ленинграде. 1934 г.
В этой книге немало и другого вранья, так что начинаешь даже сомневаться в ученой специальности автора. Например, в главе «Дороги в Колыму» (стр. 193 и след.) говорится, что «в 1911-1912 году из Архангельска во Владивосток, Северо-восточным проходом, совершила плавание гидрографическая экспедиция Вилькицкого». Как известно, «Экспедиция Северного Ледовитого океана» на судах «Таймыр» и «Вайгач», под начальством Вилькицкого, совершила плавание «Северо-восточным проходом» не в 1911-1912 г.г., а в 1914-1915, и не из Архангельска по Владивосток, а из Владивостока в Архангельск. Дальше читаем: «Уже на третий год плавания из Владивостока в Колыму пароход «Ставрополь» был затерт льдами в горле (?) Берингова пролива. Морской путь оказался ненадежным. И по Колыме ударила голодовка». Такого события не было вовсе -- в 1914 г. пароход «Колыма» зазимовал у мыса Северного на обратном пути из Колымы, благополучно доставив туда весь груз. Полную неудачу потерпела лишь колчаковская экспедиция в Колыму 1919 г., как можно полагать, не только из-за тяжелого состояния льда. Здесь же сообщается, что «с 1917 г. рейсы к устью Колымы прекратились совсем» и ни слова не говорится о ежегодных советских колымских рейсах, регулярно снабжающих Колымско-Индигирский край, сообщается, о каком-то «пространственном десятилетнем кругообороте льдов», совершенно не соответствующем действительности и т. п.
¹¹ Это не тунгусские, а якутские слова.
¹² Автор имеет в виду селение с двумя десятками изб.
¹³ Г. У. Свердруп. - Плавание на судне «Мод» в водах морей Лаптевых и Восточно-сибирского. Материалы комиссии по изучению Якутской АССР. Выпуск 30. 1930. стр. 211-212.
¹⁴ В. Ю. Визе. - Земли Андреева. Arctica. 1933. Ленинград.
¹⁵ Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому Морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах экспедициею, состоявшею под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. Часть II. Санкт-Петербург. 1841 г.
¹⁶ WNW -- к западо-северо-западу. Здесь и далее – символические обозначения направлений на морском компасе: N -- север, S -- юг, O -- восток, W – запад.
¹⁷ курсив Врангеля.
¹⁸ Мыс Шмидта.
¹⁹ После того, как тов. Ляпидевский увез на своем самолете женщин и детей лагеря Шмидта, некоторые из товарищей говорили:
-- Мы почти каждый день ходим для расчистки аэродромов. Нам приходится делать по шести-семи километров ежедневно. Если бы мы сразу пошли пешком, то. мы были бы уже на материке.
Идти пешком можно было или всем вместе, ликвидируя этим лагерь, или только наиболее крепким и сильным. В последнем случае оставшиеся не смогли бы расчищать аэродромы и явно обрекались на гибель. От этого варианта все челюскинцы отказались. Оставалось идти всем вместе. Простейшие подсчеты показали, что это означало бы двигаться со скоростью самого слабого или больного и каждому тащить за собой по 3-4 пуда груза. (И. Баевский. -- Почему мы не пошли пешком? Поход «Челюскина» т. II. Издание редакции «Правды», М. 1934 г.).
²⁰ Фердинанд Врангель. - Путешествие.

Г.Л.Травин. 1931г.

Схема маршрута Г.Л.Травина в 1928-1931гг. (А.Харитановский. «Человек
с железным оленем».)
ДРАГОЦЕННЫЕ СЕКУНДЫ
(О СОЛНЕЧНОМ ЗАТМЕНИИ)
1.
Полоска полного солнечного затмения 19 июня 1936г. прошла от Средиземного моря до Тихого океана. Возможность наблюдения солнечной короны и других феноменов, которые доступны изучению только в редкие считанные секунды полных солнечных затмений, на таком огромном расстоянии привлекла ученых всего мира. Высшая фаза затмения почти полностью проходила через Советский Союз. Наиболее длительным оно было около полудня, то есть тогда, когда лунная тень пересекала Сибирь. Надо считать счастливой случайностью (если позволительно говорить о случайности в небесных явлениях), что полоса полного затмения, начиная от Петропавловска, шла вдоль транссибирской железной дороги, вернее вдоль старого сибирского тракта, за исключением района Байкала, где лунная тень шла вдоль будущей линии Байкало-Амурской магистрали. Близ центра затмения лежали города Омск, Томск, Хабаровск.
Наибольшее количество советских и иностранных экспедиций, посетивших Сибирь, были сосредоточены в Омске. Длительность затмения здесь превышала две минуты, а сухой степной климат более других мест Сибири гарантировал ясное небо. Злейшими своими врагами в утро 19 июня астрономы считали облака. Один советский астроном, у которого что-то не ладилось, бормотал, не замечая меня, как последнее ругательство: ку-му-люс! А «кумулюс» значит – самое обыкновенное непрозрачное облако.
В эти дни горожане смотрели на небо с таким же чувством профессиональной заинтересованности, как смотрят авиаторы и моряки. Погода стояла сухая. Дул холодный северный ветер. Но в небе плыли облака.
Площадка большинства экспедиций находилась на территории совхоза № 54, немного севернее Омска. Дорога кончалась у березовой рощицы. Здесь, в стороне от последних совхозных построек, возник деревянный поселок. На вид это были тесовые сарайчики без окон, с неоконченными крышами. На деревянной доске, прибитой к шесту, воткнутому у дороги, чернела надпись: «Вход посторонним строго воспрещается». Покой ученых охранял совхозный сторож, вооруженный берданкой¹. Экскурсии омичей, видимо, успели надоесть. Сегодня же, накануне затмения, астрономы решительно отказались принимать экскурсантов. Группе нарядных велосипедистов, даже машины свои украсивших цветными лентами, пришлось повернуть обратно.
Иннокентий Андреевич Балановский, начальник советской экспедиции, состоявшей из астрономов Пулковской обсерватории и ее Симеизского отделения в Крыму, нервничал: -- Вряд ли мы будем спать сегодня, -- говорил он.
По небу действительно плыли ненавистные кумулюсы. Приборы экспедиции, все эти гелиографы, коронографы и спектрографы, названия которых теперь стали известны каждому школьнику, были установлены на прочных кирпичных фундаментах, чтобы предохранить инструменты от малейших колебаний. Задача заключалась в том, чтобы во время затмения получить безукоризненные снимки солнечной короны и ее спектра.
-- Цель экспедиции добыть новые данные о природе короны и движения вещества в ней, -- резюмирует скупой на слова Иннокентий Андреевич.
О природе солнечной короны мы знаем очень мало. Дело в том, что с помощью спектроскопа можно постоянно наблюдать все слои солнечной атмосферы, кроме короны. Свет короны слишком слаб. Вещество ее чрезвычайно разрежено. Известны случаи, когда кометы проходили через корону, не испытывая какого-нибудь заметного сопротивления. Поэтому изучение короны возможно только во время полных солнечных затмений. В самое последнее время французскому астроному Лео, с помощью весьма высокочувствительных линз, в условиях чистейшего воздуха высокогорной местности в Пиренеях, удалось получить изображение солнечной короны в любой солнечный день. Это дает возможность установить постоянные наблюдения за изменениями формы короны. Для проверки своих наблюдений Лео прислал телеграмму, в которой предсказывал, какой вид должна иметь корона во время затмения 19 июня.
В стороне от построек советских астрономов стоял маленький сарайчик, похожий на уборную. Товарищ Балановский остановил меня.
– Это пункт японской экспедиции. Они удовлетворяются снимками короны. Задача японских астрономов, так же, как советских, получить разновременные снимки короны. С этой целью часть их экспедиции находится в Омске, часть в Манчжурии, часть в Японии…
-- Наиболее мощной установкой в Омске обладают англичане. Их задача – спектральный анализ, -- прибавил Иннокентий Андреевич.
Домик английской экспедиции выглядел изящнее других. Он был выкрашен белой краской и покрыт войлочной крышей. На коньке крыши развевались маленькие флажки: на одной стороне британский, на другой -- красный, советский.
С первого взгляда было не понятно, каким образом можно наблюдать затмение из такого герметически закупоренного помещения, похожего на вагон-ледник. Рядом с домиком за парусиновой загородкой защитного цвета, было установлено круглое зеркало, снабженное часовым механизмом. Зеркало должно было посылать солнечные лучи в отверстие, проделанное в передней стенке домика. Но сейчас отверстие было наглухо заткнуто войлочной втулкой. К домику были протянуты электрические провода. Работал мотор.
Между советской и английской экспедициями стояла большая палатка, служившая складом и столовой. Там я познакомился с мистером Александером, одним из четырех помощников профессора Эбердинского университета Карролла.
Англичанин пригласил заглянуть в таинственный белый домик. Почти все помещение занимал деревянный ящик, похожий на рояль. В этом футляре были спрятаны основные приборы. Из ящика выдавались три выступа – три фотокамеры. Каждая из них должна была запечатлеть только определенную часть спектра короны и солнечной атмосферы: инфракрасную, зеленую и т.д.
В домике было прохладно. Специальный конденсатор автоматически нагнетал холодный воздух, когда температура поднималась выше нормы. В холодную погоду также автоматически включались электрические подогреватели. Здесь успех был связан с громадной точностью. Достаточно сказать, что жизненную часть интерферометра² составляли две стеклянные пластинки, отшлифованные и установленные совершенно параллельно, причем погрешность допускалась не более 0,000002 см! Такой прибор требовал сохранения определенной постоянной температуры. Поэтому, кроме автоматической регулировки температуры внутри домика, приборы были заключены в деревянный отепленный ящик, внутри которого температура вновь регулировалась до желаемой нормы.
Профессор Карролл, сравнительно молодой, сухощавый блондин, заканчивал последние приготовления. Он был доволен. Не так давно он сомневался, удастся ли установить столь деликатные приборы под Омском. Он выражал глубокую признательность советскому правительству.
В своей статье в «Москау Дейли Ньюз»³ проф. Карролл писал:
«Транспорт и установка подобного оборудования нелегка даже на коротком расстоянии от лаборатории. Когда же приходится предпринять путешествие за тысячи миль в местность, совершенно неизвестную наблюдателям, трудности становятся ужасными… Только благодаря советскому правительству, предпринявшему ряд специальных мер и снизившему до абсолютного минимума расходы по перевозке, помещению и питанию астрономов, стало возможно то, что иностранные ученые в состоянии послать в Советский Союз равноценные экспедиции. Таким образом, настоящее затмение будет изучено так же, если не лучше, чем любое из предыдущих, несмотря на то, что большая часть полной фазы падает на Сибирь».
Проф. Карролл включил еще одну электрическую лампочку. Гудение рефрижератора автоматически прекратилось. Тогда, на верхней деке⁴ деревянного футляра, среди инструментов и вычислений, я увидел смешную замшевую собачонку, восседавшую среди всего этого научного величия.
Возможно, это был некий талисман, взятый «на счастье». Во всяком случае, замшевая собачка оставалась на своем месте до конца работ экспедиции. Я отнес ее на счет девушки-астронома, мисс Флоры Мак Бэйн, ассистентки профессора Карролла.
Девушка носила мужской костюм, широкополую шляпу и «кудри черные до плеч». Она действительно напоминала оперного Ленского. Но зато на работе она никогда не ходила шагом. Она всегда бегала. Вероятно, она не подозревала, каким уважением пользовалась ее профессия, в соединении с физкультурной тренировкой, среди советских зрителей, окружавших лагерь ученых.
2.
Утро 19 июня было сухим и прохладным. Солнце сияло. Высочайшие перистые облака плыли в небе. Площадку астрономов охранял усиленный наряд милиции. Ученые скрылись. Только мисс Флора несколько раз пробежала между палаткой и английским домиком.
На площадке собралось человек 20, вооруженных стандартными засвеченными пленками и биноклями. Здесь были кинооператоры из Новосибирска, репортеры и просто особенно рьяные «болельщики». Все следили за облаками, скапливавшимися на горизонте.
-- Началось, -- сказал мой сосед.
Я оглянулся, услышав знакомый голос, и узнал своего двоюродного брата, доцента физики с которым не виделся 10 лет. Он приехал за тысячи километров⁵, чтобы взглянуть на солнечную корону.
Взоры обратились к солнцу. В его правый бок вцепился черный диск Луны. Солнце походило на надкушенное яблоко. Потом оно стало походить на лунный серп. В бинокль на солнце было ясно видно большое пятно, окруженное ослепительными вихрями.
Круглые блики в березовой рощице превратились в полумесяцы. В течение долгих минут не было заметно никакого особого потемнения. Наши глаза весьма неточно отмечают силу света, так как быстро приспосабливаются к нему. Теоретически свет Солнца от начала частного затмения до полной фазы померк более чем в полмиллиона раз, но для наблюдателей ослабление света стало заметным лишь тогда, когда от Солнца осталось не более четверти.
За несколько минут до начала полной фазы день стал быстро гаснуть. Запели колхозные петухи. Закаркали вороны. Мелкие птички метнулись в воздухе. Сгущались необыкновенные зеленоватые сумерки.
За Иртышом взлетел и стал подниматься ввысь белый субстратостат⁶, постепенно принимавший форму маленького шарика. Вот он скрылся в облаке и снова появился над ним. Но перистые облака все время продолжали оставаться на недосягаемой высоте. Субстратостат не достиг их.
Тьма надвигалась с запада. В облачных окнах потемнело небо. Цвет его был интенсивно синим. Никто не заметил «летучих теней», часто сопутствующих началу полного затмения. Наступила грозная тишина. Вдруг раздался резкий удар в гонг. Советская экспедиция возвещала о наступлении полной фазы.
-- Корона!
Черный лунный диск сразу стал видимым. Вокруг него сияла солнечная корона. Справа от нее горела «утренняя звезда» -- Венера. Цвет короны астрономы давно и правильно называют «жемчужно-серебристым». Она была подобна огромной бледной звезде. Ее правый верхний луч был значительно больше других. Она напоминала корону 1896г., т.е. корону периода, близкого к максимуму солнечных пятен. В общих чертах ее форма соответствовала предсказанной Лео.
На жемчужном экране короны резко выделялся пламенно малиновый круг хромосферы с несколькими протуберанцами⁷. Они были почти правильной цилиндрической формы. Два из них поднимались рядом на самом северном полюсе Солнца. Два вздымались в экваториальной части, как гигантские антиподы⁸. Два меньших были замены на нижней (южной) половине Солнца.
Полтораста миллионов километров! Какими должны быть эти солнечные извержения раскаленных газов, чтобы их можно было видеть невооруженным глазом. Высота протуберанцев исчисляется сотнями тысяч километров, а скорость извержения сотнями километров в секунду.
Было темно, темнее, пожалуй, чем в лунную ночь. Для того, чтобы вести записи, астрономы должны были зажечь электрические лампочки. Свет шел от заревого кольца, обрамлявшего край лунной тени. Эта заря не была похожа на обыкновенную зарю, она охватывала весь горизонт.
Пролетела летучая мышь. Животный мир затих. Когда в нашей группе возник оживленный разговор, его прервали: тише, тише! Ведь то, что совершалось в досчатых загородках было для нас священно.
Лунная тень – окно в Космос. Вот оно, настоящее Солнце, -- косматое и прекрасное, буйство мировой материи, нашей материи!
Можно было бы часами смотреть, не отрываясь, на этот величественный спектакль; но мне показалось, что не две с лишним минуты, а всего полминуты прошло от начала затмения до того мига, когда с правого края солнечного экватора брызнул ослепительный луч.
Черный круг Луны мгновенно вытянулся, как чернильная капля, втянутая в светоносную пустоту. Секунду он напоминал брильянтовый перстень, как говорят астрономы. Вокруг левого края Солнца еще видна была корона.
Секунда – и очарование исчезло. После ночной темноты казалось, что сразу наступил день.
Неистово, сконфуженные, что опоздали, пели петухи. Две коровы, видимо, очень глупые, шли домой, прогнанные с пастбища внезапным наступлением ночи; но день вернулся и коровы остановились в полном недоумении.
Корреспонденты передавали по радио описание затмения, увы, составленное заранее. К приемнику подошел профессор Балановский. Он сообщил об удаче экспедиции. Он посетовал лишь на перистые облака. Зато профессор Карролл был доволен вполне. Перистые облака, по его словам, были настолько прозрачны, что совсем не помешали спектральному анализу. Профессор Карролл четыре раза участвовал в наблюдении солнечных затмений и каждый раз неудачно – из-за проклятых кумулюсов. Он был признателен не только советскому правительству, но и советской природе, не позволившей себе такого стихийного хулиганства.
В километре от совхоза, на территории сельскохозяйственного Института, расположились еще три научных экспедиции: две советских, изучавших физические явления во время затмения, и польская, успешно выполнившая очень интересное задание, заключавшееся в определении времени появления так называемых «четок Белли» ( распадения солнечного серпа на ряд светящихся точек перед самым началом полной фазы, вследствие неровностей лунной поверхности) с точностью до сотых долей секунды. Прибор, сконструированный польским ученым Банахевичем, получил название хронокинематографа, Этот «кинематограф времени» даст возможность уточнить наши знания о движении Луны и форме земного шара.
Рядом с Солнцем, на котором снова повторялись в обратном порядке все фазы затмения, все еще вздымался стратостат.
«Это был первый для меня полет на субстратостате, -- рассказывал астроном Куликовский, -- даже на самолете я впервые сделал перелет накануне подъема. И все же я был уверен в успехе. Во-первых, полет хорошо подготовлен, а во-вторых, субстратостатом управлял знатный пилот – орденоносец товарищ Тропин. Это один из лучших советских авиаторов, ученик товарища Прокофьева.
Перед подъемом нас тревожила мысль о том, что сильный ветер может выбросить стратостат из полосы затмения до наступления его полной фазы. Поэтому мы стартовали лишь в 10 часов, т.е. за 32 минуты до полной фазы.
Наши опасения оказались напрасными: за 20 минут мы достигли высоты 8600 метров и на этой высоте стояли, ожидая момента полного затмения.
Мы имели задание на этой высоте произвести фотосъемки солнечной короны в различных лучах. Задание мы выполнили, съемки произвели: я -- большим аппаратом, а товарищ Тропин – малым.
Каковы результаты съемки – сказать сейчас трудно. Дело в том, что на высоте 8600 метров мы попали в туман. Температура была 42 градуса ниже нуля. В воздухе носилась масса мелких кристалликов льда. Вот этот туман с изморозью, конечно, мог оказать известное влияние на качество съемки.
По окончании затмения, когда Солнце нагрело оболочку субстратостата, мы продолжали набирать высоту и два часа держались на высоте 9200 метров.
Самый ответственный момент в полете субстратостата – это приземление. Я не был уверен, то мы приземлимся в районе Омска, допускал, что посадка произойдет в отдаленной и безлюдной местности, Я даже готовился к этому.
Перед посадкой в корзину я беседовал с секретарем Омского обкома партии товарищем Булатовым. Он интересовался, что я беру с собой. Я показал на торчащую из кармана книгу «Как закалялась сталь». Эту книгу я намеревался еще раз прочитать в часы вынужденного безделья после посадки. Таких часов не оказалось, а чтение книги пришлось отложить. Пилот товарищ Тропин сделал посадку почти там же, откуда он стартовал, умело использую воздушные течения в разных слоях атмосферы…»
3.
Солнечное затмение наблюдали не только ученые. Его наблюдали миллионы советских граждан. В момент полной фазы в Омске остановились автомобили, затихло уличное движение. Почти все колхозники, приехавшие на базар, заблаговременно приобрели темную засвеченную фотопленку. Не было человека, который не знал бы о наступлении затмения. Даже старый колхозный дед объяснял:
-- Это быват. Вот, пятьсот лет назад, так затмилось, так затмилось, что потом люди целый час ощупью ходили!
-- Ты, дед, наверно, в погреб залез со страха, -- шутит сосед.
-- Полное затмение больше 8 минут не бывает.
Какая-то безнадежная домашняя хозяйка шныряла в темноте между возами, презрев небесные знамения ради чечевичной похлебки:
-- Почем картошка?
-- Да погодите, мы смотрим! – отпугивали ее колхозницы.
Как далеко все это от «Затмения» Короленко, от недавнего поповского мракобесия, натравливавшего крестьян на ученых! Советская страна окружила своих и иностранных ученых любовной заботой и вниманием.
-------------
Полное солнечное затмение 19 июня длилось полторы-две с половиной минуты, но для того, чтобы обработать полученные в эти минуты материалы, потребуется, как писал профессор Карролл, до двух лет. Линии спектра, оставшиеся на фотографиях, это пока что – сложный шифр, который надо превратить в рассказ о природе вещества Солнца.
Трудно сказать, насколько продвинутся вперед наши знания о Космосе и материи в результате новых наблюдений. Но каждый шаг вперед может быть решающим. Достаточно сказать, что в момент полного затмения советскими учеными была произведена новая проверка «эффекта Эйнштейна», то есть изучались вопросы, касающиеся мирового тяготения. До сих пор мы ничего не знаем о природе этого важнейшего и универсальнейшего свойства материи. А между тем, нетрудно представить, какие величественные перспективы открылись бы перед нами, если бы удалось найти непосредственную преграду для тяготения. Конечно, в том случае, если открытие не попадет в руки фашизма, мировой реакции.
Но эта возможность исключена. Нельзя быть подлинным ученым и фашистом в одно время.
Примечания
¹ берданка -- охотничье ружье.
² интерферометр – измерительный прибор, основанный на явлении интерференции (сложения) волн; в астрономии применяется для измерения длин волн спектральных линий космических источников излучения, исследования их тонкой структуры и т.п.
³ «Москау Дейли ньюз»--«Ежедневные московские новости». Газета на английском языке, издаваемая в Москве.
⁴дека – резонирующая поверхность музыкального инструмента, здесь верхняя поверхность ящика с приборами.
⁵ Александр Глазырин жил и работал в Москве.
⁶ Субстратостат -- аэростат для подъема в стратосферу.
⁷ Протуберанцы –солнечные извержения раскаленных газов.
⁸ Антиподы – в геогафическом смысле – две противоположные точки на земном шаре.
Сибирские огни, 1936, №4, С.125-129.
VIII. Н О Р Д А Л Ь
(глава из книги «Белый кит», 1928г., Зап.-Сиб.краевое изд., 1933г.)
Пачка телеграмм лежала на легком столике, стоявшем у деревянных перил террасы, выкрашенных в голубой цвет. Над ними летело такое же тихое голубое небо, в зените плыли белые облака. Внизу, потемневшая от теплого летнего ветерка, раскинулась сине-зеленая поверхность фиорда. Серые скалы, покрытые хвойным лесом, поднимались над водой на сотни метров. На противоположной стороне залива, с каменной стены скал, низвергался белый, как снег, водопад.
Нордаль развернул еще одну телеграмму. Он посмотрел на свою руку, белую, худую, с белыми редкими волосами и голубыми венами, узловатыми, как веточки полярной ивы. Нордаль взглянул на телеграмму и не стал ее читать. Все они были одинаковы. Он получал приветствия от друзей, от научных обществ, от университетов и академий Европы и Америки, по случаю дня рождения. Нордалю исполнилось шестьдесят. Он с досадой подумал, что это печальное событие — плохой повод для поздравлений. Он предпочел бы, чтобы ему было лет сорок. Нордаль вспомнил, что двадцать лет назад он встретил день своего рождения в спальном мешке, на плавучей льдине, под восемьдесят пятым градусом северной широты, но тогда ему было гораздо лучше. Огонь смелого расчета и смелых надежд, этот знакомый зов к неведомому, отодвигал на далекий план сознания холод, звериную еду, усталость. Карта арктических течений, работа о природе лучей, вызывающих северные сияния, новые доказательства смещения материков и, может быть, самое главное, его книга об этой беспримерной экспедиции, книга, написанная просто, как дневник, и потому именно ставшая любимой книгой для всех тех, кто ценил и хотел в себе развивать высокие стороны сознания.
Нордаль быстро встал, сжав скулы и расширив грудь. Он сделал несколько быстрых шагов по террасе. Вошла Ингрид. На ней было ее лучшее платье; она вся сияла в оправе своих, все еще пышных, седых волос. Она всем своим видом подчеркивала семейное торжество. Слава Нордаля представлялась ей светлым сиянием, окружавшим ее, как брильянтовое колье. Она была счастлива.
— Не хочешь ли еще кофе? — спросила она.
Нордаль посмотрел на Ингрид почти враждебно. Зачем она подала ему сегодня кофе с уймой сластей, вместо нескольких яиц, которые лучше всего к завтраку? Он не был доволен ни ее платьем, ни домашней птицей, оравшей во дворе, ни ровными, слишком ровными, клумбами цветов в саду. Он чуть не высказал ей всего этого, и сердце его нехорошо забилось от испуга: это была та самая Ингрид, которая являлась ему в Арктике, как северное сияние в полярную ночь. Он видел Ингрид здесь, в маленьком домике, также у дверей, с сыном на руках. Он не мог о ней думать, он не мог на нее смотреть, как на привидение.
— Нет, — ответил Нордаль приветливо и твердо. — Я работаю. Я обдумываю последнюю главу моей «Геофизики». Я должен торопиться, если не хочу опоздать.
Он ушел в свою рабочую комнату и надолго заперся там, подчеркивая этой маленькой демонстрацией суетность людских понятий о подобных невеселых днях.
К обеду он вышел спокойный и озабоченный, как всякий автор, которому удалось хорошо поработать и который за работой всегда яснее видит, как много еще осталось до конца.
— Я к вечеру все-таки пригласила гостей, — сказала осторожно Ингрид.
Нордаль кивнул ей, улыбнувшись.
— Конечно, конечно. Без этого не обойтись.
Прислуга принесла еще несколько телеграмм.
— Из Осло,— прочитала Ингрид.
Нордаль увидел подпись Отто, его сына:
«Едва не забыл поздравляю как полагается».
Это «едва не забыл» очень понравилось Нордалю. Он ясно увидел сына, упорно работавшего сейчас в университете над разработкой теорий, выдвинутых Нордалем. Старик видел в молодом человеке свое реальное продолжение, любимое, как любимый труд.
— Вот все бы так и писали «как полагается»,— засмеялся он.
И прибавил:
— Ну, Ингрид, придется достать вина и выпить с тобой. как полагается.
Вторая телеграмма, единственная из всех, ни слова не говорила о юбилее Нордаля. Писал авиатор Мартин Хорн, с которым Нордаль пролетел над белым пятном севера три года назад. Нордаль вспомнил, что с тех пор он никуда не уезжал, сидел дома. Не оттого ли было так тоскливо утром, после телеграммного потока? Нордаль прочитал:
«Русское судно и наш Ларсен нуждаются в помощи. Вылетаю из Бергена в Варде и дальше. Завтра приеду посоветоваться».
— Ларсен!
Нордаль помнил его как участника одного из славнейших арктических походов; но теперь не участь старого зверобоя взволновала Нордаля. Он думал: вот предстоит большой полярный полет, а ему придется в это время сидеть за своим столом, как каторжнику. «В сущности и работа кончена, — подумал он, — осталось прибавить несколько доказательств, просмотреть всю книгу. Это можно поручить секретарю или, еще лучше, сыну».
Нордаль молчал несколько минут. Ингрид ощутила знакомую тревогу.
Решение пришло сразу и Нордаль знал, что оно сильнее его, что с ним все равно ничего не поделать. Остается его выполнять.
Вечером Нордаль очень плохо играл свою роль юбиляра. Он торопился и торопил Ингрид. Посетители — маленькая знать маленького местечка — заметили его необычное обращение с ними и один за другим ушли, раскланиваясь и смущаясь.
Нордаль работал до рассвета. Утром Ингрид нашла непривычный порядок на его письменном столе и запечатанное письмо без адреса под стальным пресс-папье.
Хорн приехал к полдню. Нордаль проснулся, услышав громкий голос авиатора. Нордаль вскочил, как двадцать лет назад, крикнул Хорна. Это был высокий блондин с серыми глазами, прямым носом и бритыми губами. Нордаль с удовольствием пожал его твердую ладонь.
— Вот, — сказал он. — Здесь самое главное. Список, что надо взять.
Хорн радостно улыбнулся,
— Нет только одного, — продолжал Нордаль — Кто летит с тобой?
— Я еще не решил,— ответил Хорн; — но это быстро. Мне надо одного, так как потом, кроме Ларсена, придется взять, наверно, много пассажиров.
— Я решил лететь,— сказал Нордаль.
Хорн перестал улыбаться. Это было неизмеримо важнее, чем судьба Ларсена. Он смутился; но тотчас же подумал, что не может медлить с ответом ни секунды. Ведь перед ним стоял Нордаль.
— Что ж, если решено. — сказал Хорн.
Нордаль позвал слуг. Он быстро называл вещи, которые надо было уложить в его чемодан. Вошла Ингрид. Она молча стала помогать, прибавляя к резиновым и меховым сапогам, меховой одежде, теплому белью, меховым рукавицам мелкие и необходимые вещи, про которые могла вспомнить только женщина. Нордаль взглядывал на Ингрид из-под седых бровей, и в его груди становилось тепло. Сколько раз она его собирала так в дорогу! И как хорошо, что она молчит, и ее руки быстро двигаются, и она все знает.
Только когда последний чемодан был вынесен на крыльцо и Нордаль надел плащ, она не удержалась, сказала тихонько: — Ты все-таки уезжаешь?
Нордаль остановился. Хорн оглянулся и быстро вышел. Нордаль поцеловал ее.
— Я знаю, — сказал он. — Но я так долго жил на месте. Я, право, не могу. Я ведь скоро вернусь. И, поверь мне, я чувствую, это уж в последний раз.
Над северной Норвегией летела солнечная ночь. Нордаль стоял с непокрытой головой, откинув капюшон пыжиковой малицы. В руках Нордаля была карта и метсводка.
— З е м л я Ф р а н ц а – И о с и ф а: северо-западный ветер шесть баллов, туман. М а т о ч к и н Ш а р: ясно, лед восемь баллов. Русская шхуна «Мурманец», промышлявшая у кромки льда, обнаружила лед у полуострова Адмиралтейства.
Первая посадка самолета была намечена близ мыса Желания, где в прошлом году «Малыгин» оставил склад горючего для авиаразведки Карской экспедиции.
— «Ждать, — подумал Нордаль, — но такой туман может держаться над льдом два, три, десять дней».
Нордаль хорошо знал повадки полярных туманов.
— «Риск. Всегда, конечно, есть риск…»
Нордаль опустил карту.
— Ну, начинаем, — сказал он.
Хорн молча кивнул. Застрекотал маленький моторчик, и через несколько секунд в строй вошли мощные роллс-ройсы. Группа людей, стоявшая на плоском камне, отошла, быстро пожав руку Нордаля. Хорн сбросил с утки пеньковый конец. Аэроплан легко ринулся вперед. Хорн повернул его против ветра, налетевшего из-за выходного мыса фиорда, дал полный газ. Ураган запел свою знакомую оглушительную песню. Острая рябь забарабанила об алюминиевые скулы гондолы. Удары стали резче и реже и вдруг прекратились. Аэроплан отделился от поверхности воды. Нордаль сладко вздохнул. Начался полет.
Впереди поднималось ослепительное солнце. Внизу — зеленое, пустынное море Баренца. Каменные берега Норвегии голубели в голубом фильтре воздуха. Далекие мысы оторвались от горизонта, всплыли над морем, как дирижабли, и, как дирижабли, ушли за южный горизонт. Нордаль смотрел вперед. Там, над темной линией, разделявшей волны и воздух, обозначились другие, мутные расплывчатые волны. Они быстро просачивались на зеленый амфитеатр моря. Туман наступал, как ядовитый газ. Хорн оглянулся. Нордаль кивнул ему, и Хорн взял руль на себя. Самолет пошел ввысь.
Причудливая облачная поверхность осталась внизу. Хронометр отметил пять часов полета. Скоро аэроплан должен был достигнуть кромки льда. Хорн стал медленно снижаться.
Самолет коснулся серых клочьев тумана. Неразличимая прежде скорость показалась Нордалю огромной от мчащихся мимо серых струй. Он невольно выпрямился. Самолет летел в тумане. Через несколько минут Нордаль увидел внизу волны моря, кое-где вспененные ветром. «Хорошо, — подумал он, — так пройдем вдоль кромки на восток, к берегу. Переждем».
Передний мотор громко закашлял, точно подавился густой сыростью. Хорн быстро поднял левую руку и пошел на посадку. Тогда между волнами Нордаль увидел несколько твердых светлых пятен. Он знал, как опасны эти мелкие морские льдины, едва выдающиеся над поверхностью: их подводная часть всегда во много раз больше.
— Редкий лед! — крикнул Нордаль.
Он ощутил пугающий толчок. Потом, почти сразу, резкую качку и холод в ногах, обутых в меховые сапоги. Кабину наполняла вода.
— Хорн! — закричал он.
Металлический самолет тонул. Нордаль открыл дверь. Вода подхватила его. В нескольких саженях качалась льдина. Он поплыл к ней. Его тело было каменным от ледяной воды и страха, но в то же время Нордаль не чувствовал этого своего тяжелого тела. Руки схватились за лед. Нордаль оглянулся. Самолета не было.
— Хорн! Хорн!
Глухая тишина, наполненная шипением воды, ответила ему. «Так вот он какой, — конец», подумал Нордаль. До сих пор он умел выходить из множества смертельных неудач… но если бы это был лед! Вокруг была жидкая пронизывающая хлябь. На минуту Нордалем овладела страшная обида. Несправедливо так его мучить после всего того, что он сделал для мира. А Хорн! Соленые брызги и соленые слезы текли по лицу Нордаля. Он со злобой выпрыгнул на льдину грудью. Твердая глыба закачалась и медленно стала вращаться, сбросив его в воду. Нордаль вынырнул и снова схватился за ледяной край. Он вспомнил свой дом на берегу теплого фиорда, Ингрид и, ярче всего, недописанную главу о смещении континентальных глыб. Он вычислил точное направление этого смещения для Старого Света. Недаром так разрушительно содрогалось Закавказье и все те горные полосы Азии, которые подвержены непрерывному сжатию в этом процессе.
Нордаль увидел свои руки, чужие руки, судорожно цеплявшиеся и соскальзывавшие с шершавой кромки льда…
Зубы стучали.
— Нет, это конец. — сказал Нордаль.
И ему стало спокойнее от того, что мысль работает точно. «Я боюсь смерти? — подумал он.— Через пять, через десять лет я умру в постели, разве это лучше?.»
Знакомая стихия простиралась вокруг.
— «Ты хочешь мне отомстить? Отомстить за победы? Нет, это тебе не удастся.» Нордаль почувствовал, что он улыбнулся своим мыслям. Улыбка восстановила его силы. Он отпустил ледяной край и нырнул, изо всех сил уходя все глубже в ледяное море Баренца и в ледяное беспамятство.
ЗАВОЕВАТЕЛИ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА
1. Мечты об открытом море
Первыми людьми, стремившимися проникнуть к Северному полюсу, были море-плаватели. Сведения о существовании на севере «свернувшегося моря» (mаrе соnсrеtum), т.е. моря, покрытого льдом, относятся к глубокой древности. После открытия Америки и развития мореплавания в Индию, Китай, Японию, дававшего большие прибыли испанцам и португальцам, державшим в своих руках южные морские пути, в Англии и Голландии, которые тогда не могли соперничать в мореплавании с Испанией и Португалией, возникла мысль попытаться найти другой путь на восток, через Ледовитый океан. «Ибо, — как говорится в памятнике скандинавской старины «Королев-ском зерцале», — люди постоянно жаждут денег и добра и идут туда, где по слухам можно иметь прибыль, несмотря на грозящую большую опасность».
Удивительно, что задолго до открытия, в 1648 г., Федотом Алексеевым с казаками Дежневым и Анкудиновым пролива, отделяющего Азию от Америки (который впоследствии получил название Берингова), этот пролив, вероятно, по сведениям, дошедшим от туземцев, был известен европейцам. На старинных картах он нанесен под названием Анианского пролива. Северный морской путь из Атлантического океана в Тихий назывался тогда Северо-восточным проходом — вокруг Азии и Северо-западным проходом — вокруг Америки. В остальном, сведения мореплавателей о Ледовитом океане были смутны или ошибочны.
Одним из наиболее странных заблуждений, продержавшихся до конца XIX века, была вера, что в центре Арктики находится чистое, свободное от льдов море. Эта ошибка поддерживалась наблюдениями русских промышленников и путешественников, которые, подъезжая зимой на нартах, запряженных собаками, к краю неподвижного берегового льда, часто видели там свободное, вспененное волнами море.
Теперь мы знаем причину этого явления. Ледовитый океан покрыт мощными многолетними льдами, но даже в самые суровые зимы он не замерзает целиком. Между отдельными льдинами, находящимися постоянно в движении, под влиянием ветров и течений, остаются трещины, более или менее значительные пространства чистой воды. Только у берегов образуется неподвижный лед, подобный льду наших рек и озер. Это так называемый припай. Наибольшего развития припай достигает у берегов Сибири, в море Лаптевых и Восточно-сибирском море. Зимой, когда дуют южные ветра, плавучие или дрейфующие льды относит от края неподвижного льда, образуется широкая полынья с необозримыми границами, которую и принимали за открытое море. Если бы старинные промышленники и путешественники, видевшие эту «великую сибирскую полынью», могли переплыть ее или подняться над ней на самолете, они снова увидели бы пространства плавучего льда, простирающегося на тысячи километров. Но они, конечно, не могли этого сделать.
Теорию открытого моря у Северного полюса разделял и первый великий русский ученый и поэт Михаил Ломоносов, организатор первой попытки русских моряков пройти в Тихий океан через район полюса.
Ломоносов прекрасно понимал значение Северного морского пути для России. В своем знаменитом сочинении «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию», он писал:
«Россия, имея Северный океан, лежащий при берегах себе подданных и по большей части исследованных и описанных, за одним только льдом и стужею не продолжает своих важных и преславных предприятий, дабы достигнуть к тем берегам восточным, где не токмо от неприятелей безопасно, то и свои поселения и свой флот найдет. Не на великом пространстве в разных климатах, которые разнятся семьюдесятью градусами, предприять долговременный морской путь Россиянам нужно; но между 80-м и 65-м северной широты обращаться. Нет страху, ни от крутых, море похищающих вихрей, ни от ударов туч, корабли от воды отрывающих, которые в северных морях нигде не примечены. Не опасна долговременная тишина с великими жарами, отчего бы члены человеческие пришли в неудобную к понесению трудов слабость; ни согнитие воды и съестных припасов и рождение в них червей; ниже моровая язва и бешенство в людях: все сие стужею, которой так опасаемся, отвращено будет. Самое сие, больше страшное нежели вредное препятствие, которое нашим северным Россиянам не так пагубно, превратится в помощь.
Сии преимущества довольны быть кажутся, чтобы побудить к новым предприятиям к обысканию Северного ходу Сибирским Океаном».
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений Европейских в Азии и в Америке», — заключал Ломоносов ¹.
Те же мысли мы находим в звучных стихах, в героической поэме Ломоносова «Петр Великий», написанной одновременно с арктическими проектами. Здесь, для большей убедительности, Ломоносов приписал свои мысли Петру I. На корабле, бегущем по бурному Белому морю, указывая «на полночь», Петр Первый говорит своим спутникам:
«Какая похвала Российскому народу: Судьбой дана пройти покрыту льдами воду. Хотя там кажется поставлен плыть предел, Но бодрость подают примеры славных дел. Полденный света край обшел отважный Гама ² И солнцева достиг, что мнила древность, храма. Герои на морях Колумб и Магеллан Коль много обрели безвестных прежде стран; Подвигнуты хвалой, исполненны надежды, Которой лишены пугливые невежды, Презрели робость их, роптанье и упор, Что в них произвели болезни, голод, мор. Иное небо там и новыя светила, Там полдень в севере, ина в магните сила; Бездонный Океан травой, как луг, покрыт; Погибель в ночь и в день со всех сторон грозит. Опасен вихрей бег, но тишина страшнее, Что портит в жилах кровь свирепых ядов злее. Лишает долгой зной здоровья и ума, А стужа в севере ничтожит вред сама. Сам лед, что кажется столь грозен и ужасен, От оных лютых бед даст ход нам безопасен.
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок, Меж льдами новый путь отворят на восток, И наша досягнет в Америку держава…
В своих многочисленных «Одах похвальных», обращенных к правившим в его время царям и царицам, Ломоносов, вместе с официальными восхвалениями, как говорится, между строк, излагал и свои заветные мысли, в том числе постоянно пропагандировал идею Северного морского пути. В этих поэтических отрывках, проникнутых подлинным высоким чувством гения и патриота, стих Ломоносова выделяется из общего текста, наполненного скукой напыщенных придворных фраз, становится живым и прекрасным.
«Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток,
Я вижу умными очами
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок»³.
Итак, «строгая природа» скрывает льдами «место входа» в открытое, полярное море. Надо только найти этот вход и путь на восток будет открыт.
Первоначально Ломоносов держался верной мысли — плыть на восток между 65 и 80 градусами северной широты, идя сначала на северо-восток, потом на восток и на юго-восток, вдоль дуги большого круга, т. е. в основном так же, как теперь ходят советские моряки, осуществившие мечту Ломоносова. Но впоследствии, под влиянием иностранных источников, Ломоносов изменил свое мнение. На основании различных теоретических соображений, отчасти верных и свидетельствующих о глубине мысли, но, в основном, основанных на ошибке, Ломоносов предложил идти через Ледовитый океан, между Гренландией и Шпицбергеном, затем близ полюса, придерживаясь американского берега, а на обратном пути — сибирского. Потому что — «главное течение океана, повсюду где человеческое рачение достигло, примечено от востока на запад; следовательно и в Сибирском океане тому быть должно», — писал Ломоносов.
Теперь мы знаем, что путь, указанный Ломоносовым, не под силу не только парусным судам, но даже самым мощным современным ледоколам. Поэтому экспедиция по проекту Ломоносова не могла быть успешной. Но Ломоносов твердо верил в открытое море у Северного полюса.
К концу своей жизни Ломоносов добился осуществления экспедиции. В 1764 г. было «повелено снарядить экспедицию для прохода Северным океаном на Камчатку, и держать ее в глубочайшей тайне даже и от Сената до времени, а официально называть: «Экспедициею о возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов».
Экспедиция была подготовлена, при близком участии Ломоносова, очень тщательно. В 1764 г. на Шпицберген были завезены избы и устроено зимовье — родоначальник будущих наших полярных станций. В 1765 и 1766 годах из Колы ⁴, на Мурманском заливе, дважды ходили на север три корабля под начальством капитана Василия Чичагова. Они, разумеется, не достигли Камчатки; но Чичагов несомненно храбро стремился вперед. Его остановили необозримые сплошные льды. В 1766 г. он достиг 80°30' северной широты,
что оставалось рекордом для русских мореплавателей до самого последнего времени, когда советские моряки побили все мировые рекорды свободного плавания в наиболее высоких широтах.
Чичагов вернулся и был награжден Екатериной II «месячным окладом» вместе со всей командой, но материалы его экспедиции и все сочинения Ломоносова пролежали в архивах 80 лет и впервые были опубликованы только в 1847 году. Между тем английские и голландские китобои также, еще в XVII веке, заходили далеко в глубь Арктики. К сожалению, полагаться на достоверность их сообщений невозможно. «Среди полярных китобоев. было в то время почти в обычае», — прихвастнуть и прибавить несколько градусов широты к своим достижениям. Чичагов в «оправдательной записке» о своих плаваниях в 1765—66 годах считал невероятным, «чтобы бывали люди выше 81 градуса к северу. Но то разве не в нынешнем веке; а ныне, как шкипера сказывали, что льды против времен умножились, и никто уже на восточную сторону Шпицбергена не ходит, а прежде, лет 60 назад, имели там промыслы; однако один шкипер сказывал, что он нынешнее лето был в 81 градусе, в то самое время, когда и мы поблизости его находились, и еще на несколько севернее, а потому и видна его погрешность. Последний пункт нашего места к северу, июля 18-го числа, по исправной обсервации был в 80° 30', а потому и заключить можно, что не все известия вероятны».
«Некоторые китобои, — пишет проф. Визе, — доходили до явного вранья. Так, например, английского гидрографа Моксона, жившего во второй половине XVII века, один штурман уверял, что он был на Северном полюсе и даже «проходил на два градуса по ту сторону полюса; там не было льда, а погода стояла такая же прекрасная и теплая, как в Амстердаме летом».
Впрочем рекорд вранья китобоев побил некий португалец Мельгер.
В упомянутом своем сочинении Ломоносов писал:
— «Господин Бюэш Королевской Парижской Географ, на изданной от себя полярной карте показывает, что некий португальский мореплаватель именем Мельгер, с клятвой объявил, что он, 1660 года марта 14 дня, вступив в путь из Японии, прошел в Португалию Сибирским Океаном; дорога его назначена точками, мимо Чукотского носу, позади полюса, между Шпицбергеном и Гренландией, и наконец между Исландиею и Англиею».
Сам Ломоносов несомненно был склонен верить в это сказочное путешествие. Путь, указанный им в его проекте, в точности совпадает с фантастическим путем Мельгера, — только в обратном направлении.
Ложь, конечно, не принесла славы китобоям, а отняла ее. В конце ХVII-го века шкипер Корнелий Роуль открыл Землю Франца Иосифа. Его описание соответствует действительности. Но он не преминул поместить эту землю на 4-5 градусов севернее, и слава ее открытия ныне принадлежит австрийской экспедиции Вайпрехта, случайно побывавшей там через 200 лет после Роуля.
Так случилась, что советская земля до сих пор незаслуженно носит имя последнего императора Австро-Венгрии.
2. Парри и Пири
Китобои ходили на север и рассказывали о своих подвигах, подобно «Охотникам» с картины художника Перова, пока существовали киты, совершенно истребленные в европейских водах в прошлом веке. Но в начале XIX века промысел еще приносил огромные доходы. Китобой Скорзби был не только китобоем, но и серьезным исследователем. Он не прибавлял градусов в своим достижениям. В 1806 году Скорзби поднялся на градус севернее русских моряков, снова встретив непроходимые льды. Тогда он впервые высказал мысль, что мечта об открытом полярном море ни на чем не основана, что никакого открытого моря у полюса нет, напротив — оно сплошь покрыто льдами. А потому, мол, и легко будет достигнуть полюса, если, забравшись подальше на север, пуститься оттуда по льду на санях, подобно эскимосам и сибирским промышленникам.
Мысль китобоя была осуществлена через сто лет Робертом Пири. Первым же пустившимся к полюсу на санях, вернее таща сани по льду, был англичанин Парри. В 1827 г. он вышел с северного берега Шпицбергена. «Надежду на использование собак или оленей, чтобы тащить сани, скоро пришлось совершенно оставить. Вместо этого сам Парри, его офицеры и экипаж в составе 28 человек вынуждены были тащить сани через лед, который к тому же не был ровным, но состоял из нагроможденных торосов и был трудно проходим» ⁵.
Так Парри прошел по льдам 480 километров. Наблюдения же показали, что он приблизился к полюсу всего нз 200 километров. Течение шло навстречу и относило льды на юго-запад. Парри достиг 82° 45' северной широты, откуда повернул обратно. Все-таки он побывал севернее, чем кто-либо до него.
Экспедиция Парри установила, что льды, покрывающие Ледовитый океан, мало походили на те ровные неподвижные ледяные поля, которые он рассчитывал встретить. Лед океана был разбит на отдельные льдины, разделенные трещинами, забаррикадирован торосами, т. е. грядами нагроможденных друг на друга льдин, тянущимися на десятки километров и, наконец, лед этот постоянно двигался и относил экспедицию в сторону.
С тех пор, в течение ста лет, полюс оставался влекущей тайной для человечества, пока ее не разгадали окончательно советские герои.
В девятнадцатом и начале двадцатого века стремление к полюсу становится не столько жаждой истины, сколько опасным спортом, жаждой личной славы и славы для своей страны. Экспедиция за экспедицией отправлялись к полюсу, но полюс оставался непобежденным.
— Невозможно достигнуть полюса, — телеграфировал Георг Нэрс, начальник одной из наиболее тщательно подготовленных английских экспедиций, когда на обратном пути, в 1876 году, он дошел до первого порта.
Но то, что кажется «недостижимым», еще больше влечет сильных духом людей.
И полюс был однажды достигнут на собачьих упряжках шестью храбрецами, во главе с американцем Робертом Пири. Остальные были: негр Хенсон и четыре гренландских эскимоса.
Советским летчикам, для того чтобы достичь полюса, считая с вылета из Москвы,
потребовалось около двух месяцев. Пири же потратил на осуществление своей мечты 23 года. Шесть раз он пускался в путь к полюсу, пока наконец достиг его 6-го апреля 1909 года. «Основным правилом физики, — говорил Пири, — является положение, что тело движется по линии наименьшего сопротивления. Но этот принцип кажется мало применимым к непоколебимой воле человека. Всякое препятствие физического или морального характера, которое становилось на моем пути, была ли то чистая вода, в ледяной пустыне Полярного моря, или сопротивление общественного характера, служило только побудительной причиной для осуществления моего решения: достичь твердо поставленной цели моей жизни, если только моя жизнь окажется достаточно продолжительной».
В 1908 г. на ледоколе «Рузвельт» Пири забрался возможно дальше к северу, вдоль западного берега Гренландии.
Гренландия — величайший из островов земного шара — наглядное доказательство существования «ледникового периода» в наше время и на широте Ленинграда. Средняя толщина льдов Гренландии достигает 1600 метров. Если бы эти льды растаяли, уровень океана поднялся бы метров на 8.
Ледники Гренландии доказывают, что для возникновения «ледникового периода» не нужно каких-либо планетарных катастроф или периодического ослабления солнечной радиации. Эти колебания сравнительно незначительны и быстры. В настоящее время, может быть под тяжестью льдов, Гренландия медленно опускается, а лежащая на другом берегу океана Норвегия поднимается, приблизительно на метр в столетие. Если этот процесс будет продолжаться или если в него не вмешается гений человека, то через 50-60 тысяч лет Норвегия соединится с Исландией, изменятся пути морских течений, на вершинах Норвегии, распространяясь все шире, начнут нарастать льды, которые со временем поглотят большую часть Европы. Льды же Гренландии растают. Затем начнется обратный процесс.
Только узкая прибрежная скалистая полоса Гренландии частично свободна от льдов. И все-таки, несмотря на суровость условий, здесь живут люди. Это эскимосы — самые северные из племен. Они кочевники, добывающие себе пропитание главным образом охотой на морского зверя. В отличие от наших сибирских северных народностей, гренландские эскимосы, во время зимних кочевок, не возят с собой своих жилищ. Они строят хижины из снега. Надо сказать, что арктический снег мало походит на рассыпчатый снег наших широт. Могучими ветрами он уплотняется, превращаясь в довольно твердое вещество, — «убой», как говорят на севере, — которое легко можно резать ножом, приготовляя строительный материал любого фасона. Выбрав подходящее место, эскимос обкладывает себя кругом такими сложными кирпичами. Над ним смыкается сплошной снежный купол. Тогда изнутри прорезается «дверь», устраивается снежная лежанка, покрытая шкурами, зажигается жировик или лампа и жилище готово. По словам Пири, некоторые эскимосы строили свои хижины в полчаса. Постройка занимала у них не больше времени, чем установка палатки. Между тем, снежная хижина эскимосов теплее и надежнее любой палатки!
Пири не достиг бы полюса, если бы не привлек эскимосов. Он нанимал их целыми семьями, целыми поселками. В последнем его походе участвовало 22 эскимоса, 17 эскимосских женщин и 10 детей. Только эти охотники, искусные погонщики собак и строители снежных хижин, больше всех других жителей Земли привыкшие к арктическим пустыням, обусловили возможность исторической победы Роберта Пири.
С «Рузвельта» Пири двинулся к мысу Колумбия, самому северному мысу самого северного из американских островов. Выбор был правилен не только потому, что максимально сокращал расстояние до полюса, которое предстояло пройти по океанским льдам, но и потому, что система течений здесь была благоприятнее, чем для других путешественников, пускавшихся к полюсу со Шпицбергена или с Земли Франца Иосифа.
С мыса Колумбия экспедиция Пири начала движение прямо к полюсу, по дрейфующим льдам, преодолевая многочисленные полыньи. С Пири было 7 членов экспедиции, 17 эскимосов и много собак. Эскимосы строили снежные хижины и устраивали склады провианта на обратный путь. Часть людей Пири постепенно отсылал обратно. На 87° 46' 49" северной широты была отослана назад последняя вспомогательная партия, во главе с капитаном Бартлетом. Пири не хотел, чтобы славу достижения полюса с ним разделил кто-либо из «белых» людей. Так случилось, что вместе с Пири и эскимосами, одним из первых людей побывавших на северном полюсе, был житель тропической Африки, неизменный спутник Пири во всех его экспедициях к полюсу, негр Мэтью Хенсон. Он «отличался исключительной работоспособностью и был чрезвычайно предан нашему общему делу, — пишет о нем Пири. — Вместе со мной он испытывал все лишения и трудности работ в суровых условиях Арктики. Человека, который бы умел так искусно обращаться с санями, и лучшего каюра ⁶ трудно сыскать; в этом отношении с ним могли соперничать лишь некоторые эскимосы-зверобои».
Мэтью Хенсон, теперь уже седой старик, вопреки человеконенавистническим фашистским теориям превзошедший представителей «северной расы» в таком деле, как достижение Северного полюса, в настоящее время живет в Нью-Йорке и неизменно с большим уважением отзывается о работе советских героев-полярников.
Перед последним походом Пири записал в овоем дневнике: «Наконец — полюс. Цена трех столетий. Моя мечта и цель в течение 20 лет. Наконец, мой. Я этого еще не могу осмыслить. Все кажется таким простым и понятным».
Взяв с собой легкие сани и инструменты, Пири в сопровождении двух эскимосов быстрым маршем двинулся вперед и прошел еще 18 километров. Небо прояснилось и наблюдения показали, что Пири находился по ту сторону полюса.
«Условия, в которых мы находились, — пишет Пири в своей книге, — казались нам столь своеобразными, что едва укладывались в нашем понимании. Но особенно замечательным мне казалось то обстоятельство, что в течение марша в несколько часов мы, пройдя вершину мира, перешли из восточного полушария в западное. Так трудно себе было представить, что мы в течение первых километров нашего марша шли прямо на север, а во время последних километров того же самого марша подвигались на юг, хотя все время шли в одном и том же направлении. Трудно себе представить лучшую иллюстрацию относительности всех вещей».
«Когда мы были на обратном пути, которого никто до нас не видел и вряд ли когда-либо увидит, я был охвачен представлениями, единственными в своем роде. Запад, восток и север исчезли для нас, нам оставалось только одно направление, и это был юг. Всякий ветер, откуда бы он ни дул, был южным ветром. Там, где мы стояли, один день и одна ночь вместе равнялись одному году, и сто таких дней и ночей составляли столетие. Если бы мы здесь оставались 6 месяцев в течение зимней ночи, мы могли бы наблюдать, как все звезды северного полушария совершают круг над горизонтом, а Полярная звезда, находится над нами в зените»⁷.
Кроме подобных переживаний, которые доступны сейчас каждому школьнику, Пири привез мало существенного о Северном полюсе. В сравнении с затраченными усилиями научные результаты экспедиции Пири ничтожны. Дважды он пытался измерить глубину океана в районе полюса, но дна не достал. Во второй раз лот оборвался и утонул. Эскимос с удовольствием сбросил тяжелую лебедку с нарты.
Первыми людьми, измерившими глубину океана у полюса, были папанинцы и она оказалась в полтора раза больше, чем показали измерения Пири — более четырех километров.
Не успел Пири вернуться, как узнал, что у него нашелся конкурент. Доктор Кук заявил, что это он, а не Пири первый достиг полюса. Оба они бешено обвиняли друг друга во лжи. Только впоследствии путешественники узнали от эскимосов, сопровождавших Кука, что этот любитель легких успехов отъехал в океан на один день санного пути, водрузил на льдине американский флаг, сделал фотографический снимок и объявил, что достиг полюса.
3. Первая дрейфующая станция
Неимоверные трудности санных экспедиций к полюсу и невозможность соединить с ними серьезные научные работы, снова и снова, несмотря на все прошлые неудачи, побуждали посылать к полюсу корабли. В течение почти всего XIX века не исчезает надежда найти «место входа» если не в открытое полярное море, то во всяком случае в разреженные льды.
Одним из последних искателей морского пути к полюсу был американец Де-Лонг. В 1879 году он прошел Берингов пролив, сначала с целью розысков Норденшельда, который зазимовал в Колючинской губе и о котором тогда еще не было сведений. Узнав, что Норденшельд благополучно вышел в Тихий океан, Де-Лонг повернул к полюсу. Это было, конечно, еще более безнадежное предприятие, чем даже экспедиция Чичагова, так как льды в притихоокеанской части Арктики опускаются на тысячу километров южнее и более мощны, чем льды приатлантической Арктики, куда вливаются струи теплого атлантического течения. Де-Лонг же был так уверен в успехе, что взял с собой специаль- ный медный ящик, с выгравированными именами участников экспедиции, который он намеревался оставить на Северном полюсе. Недалеко от острова Врангеля судно экспедиции Де-Лонга «Жаннетта» вошло во льды и скоро было остановлено ими. Выбраться из льдов Де-Лонг уже не мог. «Жаннетта» начала дрейфовать вместе со льдами.
Вскоре дрейф обнаружил ясную закономерность. Льды двигались с востока на запад.
Через два года непрерывного дрейфа, недалеко от Новосибирских островов, участники экспедиции открыли новые острова — остров Бенетта, остров Генриетта и остров Жаннетта, — получившие название островов Де-Лонга. На одном из них в прошлом году построена 57-я советская полярная станция. Тогда же это были пустынные, отрезанные от всего мира, оледенелые скалы. 3десь «Жаннетта» была окончательно раздавлена льдами и пошла ко дну. Де-Лонг со своими спутниками добрался на лодках до дельты Лены. Здесь он погиб от голода и холода, вместе с частью своей команды. Но часть людей спаслись и рассказали о судьбе «Жаннетты».
А еще через три года на южном берегу Гренландии были найдены несколько предметов с погибшей «Жаннетты». Еще раньше на берегах Гренландии, где не растет ни одного дерева, находили стволы деревьев, ободранные льдом. Стволы эти чаще всего были сибирского происхождения. Сосна и кедр с Оби или Енисея, лиственница с берегов Лены и Колымы, унесенные весенним разливом, становились великими путешественниками и плыли вместе с льдами океана. Профессор Мон высказал мысль, что очевидно льдину с вмерзшими в нее вещами с «Жаннетты» пронесло через весь Арктический бассейн.
Тогда выступил Нансен со своим гениально-простым и смелым проектом дрейфа через Ледовитый океан.
«Нельзя не прийти в выводу, — писал Нансен, — что течение (в Северном ледовитом океане) проходит или через полюс, или во всяком случае очень близко от него, где-то между Гренландией и Шпицбергеном. В таком случае дело обстоит очень просто. Надо войти в течение по ту сторону полюса, где оно направляется к северу, и с помощью этого течения проникнуть в области, куда все прежние исследователи тщетно старались попасть, идя против течения» ⁸.
Но легко сказать «войти в течение». До сих пор все мореплаватели боялись этого течения, заковывающего корабли в свой смертельный ледяной дрейф. Китобои считали корабль, которому не удалось до наступления зимы выбраться из льдов, погибшим. Экспедиция Де-Лонга подтверждала, что рано или поздно корабль, захваченный льдами, будет раздавлен.
— Надо построить такой корабль, — думал Нансен, — который бы, при сжатии, не сопротивлялся льдам, а выскакивал из них, как арбузное семечко из пальцев.
Так был построен «Фрам», что значит «вперед», крепкий и круглый, как яйцо.
Летом 1893 года Нансен на «Фраме», с небольшой командой и запасом продовольствия на пять лет, вышел в свой исторический поход. Он прошел через льды Карского моря и, впервые после Норденшельда, снова обогнул мыс Челюскина. Путь к Новосибирским островам был сравнительно легким. Дойдя до северной кромки льда, «Фрам» вмерз в него на широте 78° 50' и восточной долготе 133° 30', недалеко от места гибели «Жаннетты». Все случилось, как рассчитывал Нансен. Началась зима, льды сдвинулись, но «Фрам» остался невредимым.
«Лед теснится и громоздится вокруг нас со всех сторон, — писал Нансен, сидя в своей каюте, — ледяные глыбы нагромождаются друг на друга, почти касаясь такелажа судна. Лед напрягает все свои силы, чтобы истереть «Фрам» в порошок. Шум постепенно возрастает и становится подобным звуку всех труб органа вместе, судно дрожит и трясется, поднимаясь то толчками, то потихоньку. Но мы сидим в наших уютных каютках совершенно спокойно и даже выходим наверх посмотреть на хаос. Приятно сознавать, что судно крепко — другие суда, были бы давно раздавлены».
Ледяные поля сошлись и «Фрам» остался на них, как на подносе. Дрейф «Фрама» со льдами продолжался три года. 15 ноября 1895 года «Фрам» достиг 85⁰ 56' северной широты, где ни до него, ни после не бывало ни одно судно. Затем направление дрейфа постепенно сменилось на юго-западное. В августе 1896 г. «Фрам» вышел на чистую воду около Шпицбергена и благополучно вернулся в Норвегию.
Сам Нансен вернулся на шесть дней раньше своего корабля, проделав еще более замечательный путь. Когда выяснилось, что «Фрам» не достигает Северного полюса, Нансен сошел с корабля и с одним спутником, Иогансеном, с одной упряжкой собак отправился дальше на север.
Нансен дошел до 86° 14' северной широты, — севернее, чем кто-либо до него. Дальше простирались такие же торосистые льды, покрывавшие глубокий океан. Нансен повернул на юг и направился к Земле Франца Иосифа.
— Не слишком ли велики крылья, которые дает человеку его дух, — думал Нансен.— Больше, чем мы можем выдержать.
Одно смертельное препятствие сменялось другим. Путешественники достигли земли, когда была съедена последняя собака и последний сухарь. Первой их заботой было запастись пищей и топливом на зиму. Пищей служило мясо белых медведей, топливом — жир моржей. Они построили хижину из камней, покрытую шкурой моржа. Там горела лампа, сделанная из металлических полос, которыми были подбиты сани. В лампе топилось моржевое сало, вместо фитиля плавал кусок марли.
Куски сала в лампе пригорали. Путешественники называли их «пирожными». Они казались им необыкновенно вкусными. Это был лучший десерт после медвежьего мяса, изжаренного в тонком медвежьем жиру, напоминавшем домашний тресковый жир.
Ежедневно производились метеорологические наблюдения; но научные работы занимали немного времени. Чтобы полярная зима промелькнула быстрее, путешественники старались как можно больше спать. Такой режим нисколько не вредил их здоровью. К концу зимы Нансен прибавил в весе на пуд.
Нансен был не только ученым, но и выдающимся спортсменом. В юности он взял однажды мировое первенство по конькам. Успех его исключительной зимовки надо отнести не столько к физической выносливости, сколько к моральной выдержке. И воспоминание об этом подвиге наполняет сознание неистребимым оптимизмом, когда думаешь о людях, затерянных в пустынях Арктики.
Весной Нансен и Иогансен двинулись к южным берегам архипелага. Здесь они счастливо встретили английскую экспедицию Джэксона, которая вскоре доставила их на родину.
Путешествие Нансена было первым путешествием вглубь Арктики, принесшим действительно ценные научные сведения. «Наше путешествие, — писал Нансен, — приподняло значительную часть завесы, покрывавшей большую неисследованную область около полюса и дало нам возможность составить себе довольно ясную достоверную картину той части нашей земли, которая до сих пор была отдана в добычу фантазии. Но мы не должны останавливаться на этом, еще немало загадок зовет нас к новой работе на Севере и многие могут разрешить только долгие годы наблюдений».
Самому Нансену не удалось осуществить свои дальнейшие планы. Это сделали советские исследователи.
4. «Орел» и колбаса
Итак, полюс не был достигнут ни Нансеном, ни «Фрамом». Льды снова оказались непреодолимой преградой. Но зачем биться с этими льдами, когда есть свободный путь? Вот он, — всюду, — это воздух.
Первым воздухоплавателем в Арктике был шведский инженер Соломон Август Андрэ. "Через год после возвращения «Фрама», 11 июля 1897 г., Андрэ вылетел к полюсу на воздушном шаре «Орел».
База была устроена на северном побережье Шпицбергена. Андрэ рассуждал просто: надо дождаться южного ветра и южный ветер принесет шар к полюсу. Он так и сделал. Дождался южного ветра, отдал концы и полетел к северу.
Андрэ с двумя спутниками и его шар пропали бесследно. С пути Андрэ удалось передать о себе несколько известий с помощью голубей и буйков; но все эти записки рассказывали о благополучном полете. Других сведений не было.
Андрэ долго искали, но безрезультатно. Говорят, царское правительство также разослало циркуляр по северным окраинам России с предложением «произвести дознание о пропавшем аэростате Андрэ». На что якутский становой пристав рапортовал: «Во вверенном мне стане арестанта Андрея не обнаружено». Тем дело и кончилось.
Только в наше время, в 1930 году, одна экспедиция неожиданно нашла на маленьком острове Белом, лежащем к востоку от «Северо-восточной земли» Шпицбергена,⁹ труп
Андрэ и его спутников. В их одежде были найдены дневники, записные книжки и даже фотографические пленки, которые удалось проявить, так что теперь мы не только знаем судьбу экспедиции Андрэ, но и «видим» отдельные ее моменты.
Шар Андрэ достиг почти 83° северной широты. Здесь он окончательно отяжелел от тумана и оледенения — самого грозного врага всех воздухоплавателей и летчиков в полярных странах. Андрэ и его спутники покинули шар и отправились пешком к Земле Франца Иосифа. Но дрейф льдов относил их назад. Выбившись из сил, они повернули к Шпицбергену. Здесь, на острове Белом, они погибли от истощения и холода.
Андрэ ясно представлял себе грозящую опасность, но несмотря на это писал в своем дневнике во время полета: «Изумительно парить здесь над Ледовитым океаном! Скоро ли у нас будут последователи? Сочтут ли нас сумасшедшими или же последуют нашему примеру? Я не стану отрицать, что нами всеми тремя владеет горделивое чувство. Мы считаем, что спокойно можем принять смерть, сделав то, что мы сделали».
9 октября 1930 года останки Андрэ и его спутников — Стринберга и Френкеля были преданы огню в крематории, в Стокгольме.
«На торжественном заседании, посвященном памяти первых полярных воздухоплавателей, секретарь Шведской Академии наук Эрик Карлсфельд сказал: «Многое прошло с тех пор, как вылетел Андрэ. Если представить себе, что Андрэ мог бы сейчас вернуться сюда живым, то он увидел бы подтверждение своей твердой веры в науку и технику. За его бедным «Орлом», слабым и с подрезанными крыльями, последовали летательные аппараты, достаточно мощные для того, чтобы противостоять силам природы. Его заблудившегося голубя заменили говорящие волны, передающие человеческое слово через безграничные пространства. Андрэ был первым, проложившим новый путь и возвестившим: «Мы будем летать, как орлы, и ничто не сломит наших крыльев» ¹⁰.
Через десять лет после гибели Андрэ американский журналист Уэльман решил повторить полет на воздушном шаре к полюсу. Его не столько интересовал полюс, сколько газетная сенсация, раздутая им вокруг полета, и связанные с ней материальные выгоды. Американские газеты в течение нескольких лет рекламировали предприятие Уэльмана, как «самое современное», основанное на последнем слове науки.
Полюса Уэльман не достиг, никаких новых рекордов не поставил, за исключением одного довольно странного: мирового рекорда в колбасном производстве.
Для придания аэростату некоторой управляемости, к нему привешиваются так называемые гайдропы, т. е. тросы или канаты, отчасти поднимающиеся в воздух, отчасти волочащиеся по поверхности. Вместо таких гайдропов Уэльман изготовил колбасу, несомненно величайшую в мире, в 50 метров длиной, которую прицепил к своему шару. По теории Уэльмана от колбасы, когда она будет волочиться по льду, станут обрываться куски. Если случится авария и Уэльману придется возвращаться пешком, он будет подбирать эти куски и есть.
Первый полет Уэльмана совсем не удался. Во второй раз, когда воздушный шар понесся над льдами, к счастью для Уэльмана, его колбаса оборвалась сразу. Уэльман снизился, был подобран находившимся вблизи судном норвежской экспедиции и больше не летал.
Колбасу же съели белые медведи.
5. Над полюсом
После империалистической войны 1914-18 гг., с развитием авиации и воадухоплавания, достижение полюса по воздуху стало вопросом техники и организации. Руаль Амундсен ¹¹ одним из первых понял значение самолета для полярных исследований. Он даже сам научился летать и в 1914 г. сдал экзамен на звание гражданского летчика.
Мечтой Амундсена было достигнуть Северный полюс, но вместо Северного полюса он попал на Южный. В начале XX века Амундсен решил повторить дрейф «Фрама», войдя в ледяное течение еще восточнее и рассчитывая таким образом ближе подойти к полюсу. Амундсен начал подготовку экспедиции. Но в это время Пири достиг полюса. Интерес к путешествию Амундсена у норвежской буржуазии пропал. Амундсену грозило разорение.
—«Нужно было как можно скорее одержать ту или иную сенсационную победу»,— писал Амундсен в своих воспоминаниях.
Продолжая утверждать, что целью его путешествия является не достижение полюса, а научные работы, Амундсен, выйдя в море, объявил, что он идет не к Северному полюсу, через Берингов пролив, а к Южному полюсу. Все участники экспедиции согласились следовать за Амундсеном. Среди них был один русский, Александр Кучин. После экспедиции к Южному полюсу он стал капитаном судна «Геркулес», погибшего вместе со всеми людьми в Карском море, осенью 1912 года.
В 1911 г. Амундсен достиг Южного полюса и благополучно вернулся обратно. Он добился и славы и денег. Но мысль о Северном полюсе не оставила его. Даже в момент высшего достижения, когда он поднимал норвежский флаг над Южным полюсом, Амундсен писал в своем дневнике: «Пожалуй, никогда никто из людей не стоял, как я в данном случае, на месте столь диаметрально противоположном цели своих желаний!».
После нескольких неудачных попыток, Амундсен получил в 1925 г., с помощью американского миллионера Элсворта, два подходящих гидросамолета. Вылетев с одного из островов Шпицбергена, они достигли 87⁰43' северной шпроты. Здесь у одного самолета сдал мотор. Самолет опустился на узкую полынью между льдами. Второй самолет последовал за ним. Самолеты снизились благополучно, но подняться уже не смогли. С огромным трудом Амундсен и его спутники вытащили один из самолетов на лед, ножами расчистили аэродром, выкинули для облегчения веса все научное снаряжение, поднялись в воздух и вернулись.
В следующем 1926 г. Амундсен вылетел на север на дирижабле «Норге», с целью пролететь над полюсом, через весь Ледовитый океан, от Шпицбергена до Аляски. Этот полет удался блестяще. 12 мая 1926 года Амундсен был над полюсом. Дальнейший полет «Норге» для нас интересен тем, что путь его приблизительно совпадает с трассой самолета Леваневского ¹².
Амундсен впервые пролетел над областью, никогда до него не посещавшейся человеком. В тот же день, 12 мая 1926 г., дирижабль пролетел над самым центром Ледовитого океана, над Ледяным полюсом (83°50' сев.широты и 160° зап. долготы) или, как его часто называют, — полюсом Недоступности. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть, что Северный полюс гораздо ближе к окружающим берегам, чем Ледяной полюс, который поэтому является наиболее трудно достижимым.
В районе Северного полюса всюду встречался сильно расколовшийся лед, но на Ледяном полюсе или на полюсе Недоступности «не было видно ни одной капли открытой воды».
«Действительно, это место заслуживает своего названия, — писал Элсворт, участник полета на дирижабле «Норге». — Смотря вниз из кабины дирижабля нам казалось, что мы находились над дикой областью, покрытой снегом, где какие-то великаны боролись со льдами. И мы были уверены, что даже наиболее склонные к приключениям на борту корабля были счастливы, что они над «полюсом Недоступности» летят, а не принуждены форсировать путь, борясь с ледяными баррикадами».
На Ледяном полюсе, в самом центре Ледовитого океана, Амундсен видел следы белого медведя.
Дальнейший полет осложнил туман, покрывавший громадные области. Здесь путешественники испытали величайшую опасность. Туман оседал ледяными наростами на металлических частях дирижабля, куски льда отрывались воздушной струей от пропеллеров и летели в оболочку дирижабля, разрывая ее. Оболочку приходилось непрерывно чинить.
На следующий день участники экспедиции увидели землю. Дирижабль благополучно снизился на территории Аляски.
В том же году, на несколько дней раньше полета Амундсена, американский летчик Бёрд ¹³ вылетел на самолете с того же пункта на Шпицбергене, откуда затем вылетел дирижабль «Норге», достиг полюса и вернулся обратно. Этот полет имел чисто спортивное значение. Ни Бёрд, ни Амундсен даже не мечтали о возможности снизиться на полюсе и произвести там какие-нибудь научные работы.
Через год, 15-16 апреля 1928 г., Губерт Уилкинс и Бек Эйельсон перелетели Ледовитый океан на самолете в обратном направлении: с мыса Барроу — северного мыса Аляски — на Шпицберген. Самым положительным в этом полете было то, что Уилкинс не стремился во что бы то ни стало лететь через полюс. Он проложил свой путь в стороне от полюса, ближе к Америке, обследовав таким образом новые пространства Ледовитого океана.
Во время этого полета летчикам пришлось опуститься на лед. Хотя они благополучно поднялись и закончили полет, но рассказ Уилкинса скорее подтвердил, чем опроверг убеждение Амундсена и других полярных исследователей о непригодности самолетов для посадки на льды Ледовитого океана.
«Так как самолет не двигался с места, — рассказывал о старте со льда Уилкинс, — пока мы вдвоем находились в нем, то я сошел на лед, чтобы сдвинуть хвост аппарата. Мне это удалось, и я уже во время движения самолета попытался взобраться на него, но свалился вниз. Эйельсон, не могший обернуться, дал полный газ, думая, что я нахожусь внутри, но как только заметил мое отсутствие, тотчас же пошел на посадку».
«Мы снова сделали попытку подняться, как только машина тронулась, я ухватился за хвост и напряженно пополз вперед, чтобы добраться до кабины. Мои руки совсем застыли, так как я бросил прочь свои перчатки, чтобы крепче ухватиться за тросы, ведшие к двери кабины. Мои руки отказались работать и я зубами ухватился за трос. Это быть может было безрассудно, но у меня не было другого выхода. Самолет скользил очень быстро, Эйельсон не замечал, что я нахожусь еще на хвосте, он думал, что я уже в безопасности, и дал газ. Едва мы только отделились от поверхности льда, для меня стало ясно, что в воздухе мне не добраться до кабины. Я соскользнул с корпуса, но получил такой удар
хвостом, что с силой ударился о снег, который по счастью в этом месте был мягок. Я оказался наполовину погребенным под снегом и почти потерял сознание. Немного отряхнувшись от снега, я установил, что невредим, только зубы сильно шатались. После этого была, наконец, предпринята третья, удавшаяся попытка старта».
В научном отношении этот полет принес еще меньше, чем полёт Амундсена.
Успех Амундсена стал причиной его гибели. Один из его спутников, конструктор дирижабля, итальянец Умберто Нобиле, возвратившись из экспедиции, стал выступать с лекциями о полете «Норге», в которых заявлял, что идея экспедиции Амундсена принадлежит … Муссолини. Амундсену пришлось публично опровергать это наглое утверждение. Тогда Нобиле самостоятельно организовал экспедицию к полюсу на дирижабле «Италия». В 1928 г., 24 мая, дирижабль достиг полюса. По приказу Нобиле на полюс был спущен крест и сброшен итальянский флаг. Граммофон играл фашистский гимн, а участники экспедиции распили бутылку коньяку.
На обратном пути дирижабль попал в туман и поток встречного ветра. Скорость полета уменьшилась. Дирижабль оледенел и упал, сильно ударившись гондолой о лед. Гондола разбилась, и большинство участников экспедиции высыпались из нее. К счастью для них на льду оказалось также значительное количество продовольствия и походная радиостанция, вывалившиеся из дирижабля. Облегченный дирижабль немедленно снова поднялся, унося шесть оставшихся в гондоле итальянцев. Эти шесть человек пропали без вести. Для спасения оставшихся на льду ряд государств организовали спасательные экспедиции. Многие из этих экспедиций принесли только лишние жертвы. К восьми человекам, погибшим на «Италии» (кроме упомянутых шести человек, во время катастрофы был убит механик дирижабля, а затем погиб при попытке добраться пешком по льду до Шпицбергена ученый Мальмгрен), прибавились шесть человек бесследно пропавшего самолета «Латам», в числе которых были Амундсен и три итальянских летчика.
Участники экспедиции Нобиле, как известно, были спасены советской экспедицией на ледоколе «Красин». Во время этой спасательной экспедиции советские летчики Чухновский ¹⁴ и Бабушкин ¹⁵ совершили ряд замечательных полетов. Чухновский обнаружил местопребывание итальянцев Дзаппи и Мариано, ушедших вместе с Мальмгреном. «Красин» в тот же день подошел к ним и спас этих людей, находившихся на краю гибели. Бабушкин, во время разведывательных полетов, 15 раз поднимался и опускался на льды моря, доказав, что опытный полярный летчик с успехом может найти среди них аэродром. Из иностранных летчиков только шведу Лундборгу удалось однажды слетать в лагерь итальянцев, откуда он взял одного Нобиле. Во второй раз Лундборг сам остался пленником ледяного лагеря.
— В Арктике могут летать либо сумасшедшие, либо русские, — заявил он.
---------------------
После гибели «Италии» и безвременной смерти Амундсена хозяева капиталистического мира убедились, что полярные экспедиции не приносят прибыли. Полеты вглубь Арктики прекратились. Американский летчик Бэрд, ставший после своего первого полета над полюсом серьезным исследователем Антарктики,
писал: ¹⁶
— «Напрасно я старался внушить истину одному известному американскому коммерсанту.
-- Но как извлечь из нее деньги, какая от нее может быть выгода? — твердил он».
«Когда мы вернулись, — продолжает Бёрд, — глава одного большого предприятия сказал нам: — Ваша экспедиция. протекла слишком гладко; ей нехватало лишений и драматизма».
Торгашам пришлись не по вкусу как раз наиболее положительные стороны работы Бёрда. Они бы предпочли, чтобы он поплатился жизнью. Это было бы более громкой рекламой для фирм, вложивших средства в его путешествие, чем научные достижения.
«Мне не случалось встретить исследователя, который не разорился бы, либо не был близок к разорению», — признается Бёрд.
6. Советские люди в Арктике
«Работа советских полярников всегда отличалась не только своими масштабами, но и глубокой принципиальностью, — писал Герой Советского Союза, начальник советской экспедиции на Северный полюс, академик О. Ю. Шмидт. — Нам совершенно чуждо рекордсменство, погоня за внешними эффектами. Работая по изучению и освоению Арктики, мы стараемся делать не то, что эффектно, а то, что нужно сделать в интересах развития науки и освоения сил природы».
В этой работе советские люди попутно ставили один мировой рекорд за другим; но рекорды никогда не являлись для нас самоцелью. Это был побочный продукт. Само по себе достижение полюса для нас не представляло никакого интереса. Кому он нужен этот полюс — голая льдина, такая же, как все другие, окружающие ее? Слетать на полюс и вернуться обратно наши летчики могли бы давно. За две недели до того, как первый тяжелый самолет советской экспедиции опустился на полюс, летчик Головин получил задание слетать туда, посмотреть, какая там погода, и вернуться обратно. Он так и сделал: долетел до района полюса, установил, что погода там плохая, и вернулся обратно, на остров Рудольфа. В своих воспоминаниях летчик Головин писал, что полет над полюсом казался ему обыденным делом, как будто он летел не над льдами океана, а над аэродромом.
Нет, не сам по себе полет к полюсу привлекал туда советских исследователей. Цель, поставленная ими, заключалась в том, чтобы превратить самые недоступные пустыни в новые великие пути сообщения, вырвать у ледяных стражей полюса новые знания, чтобы отдать их любимой родине и всему человечеству. Это была великая и героическая задача, блестяще разрешенная советскими людьми.
К 1937 г. Северный морской путь, который большевики стали осваивать с 1920 года, когда в Сибири утвердилась советская власть, превратился в путь нормальных грузовых сообщений. Ежегодно этим путем перевозилось в пять раз больше грузов, чем за весь капиталистический период. Одновременно с развитием Северного морского пути развивалась советская полярная авиация. Дальнейшие задачи требовали более глубокого изучения Арктики.
Незадолго до своей смерти Фритьоф Нансен основал международное общество «Аэро-арктик», с целью устройства при помощи дирижаблей научной дрейфующей станции в центре Арктики. Однако проект Нансена был признан «фантастическим».
— «Обвинение в фантастичности мы спокойно принимаем, — ответил Нансен. — Ибо всякая исследовательская работа является действительно плодотворной только тогда, когда ее окрыляет фантазия и только такими исследованиями человеческая мысль смело движется вперед».
Нансен умер, не осуществив своей мечты и не добившись сочувствия в буржуазных странах. Организация дрейфующей станции на Северном полюсе была не по плечу капиталистическому миру.
В 1935 г. в Советском Союзе началась подготовка к полету на Северный полюс с целью организации там исследовательской станции. В 1936 г. на о. Рудольфа, самом северном острове Земли Франца Иосифа, была организована база, куда ледокол «Русанов» доставил основные грузы экспедиции. В марте 1937 года четыре тяжелых самолета вылетели на север, под управлением летчиков Водопьянова, Молокова, Алексеева и Мазурука. Начальником экспедиции был назначен О. Ю. Шмидт, его заместителем М. И. Шевелев. Через месяц самолеты достигли острова Рудольфа. Выждав благоприятной погоды, рано утром 21 мая 1937 года, первый самолет вылетел на полюс. Это был знаменитый «Н-170», пилотируемый Героем Советского Союза т. Водопьяновым и т. Бабушкиным, при флаг-штурмане тов. Спирине. На борту самолета находилась также славная четверка будущих зимовщиков станции «Северный полюс» — товарищи Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров.
Во время полета т. Шмидт каждый час радировал в Москву о положении самолета.
«В 6 час. 00 мин. самолет «Н-170» достиг 83°07" северной широты, идя на высоте 1000 метров. Над самолетом тонкий слой облаков с разрывами. Внизу 9 --10-балльный крупно-битый лед, большими полями».
«В 7 час. 00 мин. самолет пролетел долготу 58° 00, широту 84⁰25', идя над облаками на высоте 1450 метров».
«В 8 час. 04 мин. самолет, продолжая продвижение на север, на высоте 2000 метров над сплошным слоем облаков, с редкими разрывами, достиг долготы 58⁰00', широты 85⁰50'. В разрывы облаков видны ледяные поля с частыми трещинами. Сильный встречный ветер».
«В 9 час. 00 мин. самолет прошел широту 86⁰47", идем в тумане».
«В 10 час. 03 мин. достигли широты 88⁰35'. Начиная с 88 градуса видимость значительно улучшилась. Лед — огромные поля на много километров, разделенные длинными трещинами. Температура минус 23°. На самолете все в порядке».
В 11 часов связь с самолетом Водопьянова неожиданно прервалась. Наступили тревожные часы. Только через 13 часов, в ночь с 21 на 22 мая, от начальника экспедиции О.Ю. Шмидта была получена радиограмма, извещавшая об исторической посадке советского самолета на дрейфующую льдину, примерно в двадцати километрах за северным полюсом. Связь прервались из-за случайной и незначительной аварии рации самолета. Как только папанинцы установили свою знаменитую радиостанцию, связь не-медленно возобновилась и с тех пор не прерывалась.
В 11 часов 10 минут 21 мая самолет «СССР Н-170» пролетел над полюсом, а в 11 часов 25 минут Герой Советского Союза т. Водопьянов блестяще совершил посадку на лед. Отсюда начался дрейф советской станции «Северный полюс».
Перед вылетом экспедиции из Москвы, редакция «Известий» обратилась к виднейшим западным ученым, полярникам и авиаторам с просьбой высказаться о наилучшем, по их мнению, способе достижения Северного полюса. Некоторые предлагали дирижабль, некоторые подводную лодку и даже упряжку собак. И все считали, что посадка самолета в районе полюса невозможна. Тем значительнее был успех Водопьянова, разбившего вдребезги этот предрассудок.
За самолетом Водопьянова, выждав погоду, полетели на полюс остальные воздушные корабли. Все они едва отрывались от ледяного аэродрома. Общий вес грузов, которые надо было доставить на дрейфующую льдину у полюса, превышал десять тонн, не считая людей. Сначала под самолетами был виден сильно расколовшийся неровный лёд, затем, приблизительно к 85° сев. широты, начались ровные мощные ледяные поля, до-пускавшие посадку. В трещинах отчетливо выделялся над водой высокий торец льда. Средняя толщина льда равнялась 3-4 метрам.
Самолеты шли далеко друг от друга, широким фронтом, чтобы легче было обнаружить флагманский корабль Водопьянова. Все они шли к цели с прекрасной точностью. Молоков, долетев до полюса, развернулся там, по его выражению, как вокруг телеграфного столба, точно взял направление на дрейфующую станцию и безукоризненно опустился на ее аэродроме. Следующим шел самолет т. Алексеева. Долетев до полюса, он опустился на льдину в самой непосредственной близости от этой воображаемой точки «земной оси», определился, снова взлетел и блестяще поставил свой самолет рядом с самолетами Водопьянова и Молокова. Несколько в стороне от станции опустился т. Мазурук; но, проявив должную выдержку, дождавшись благоприятных атмосферных условий, через несколько дней он также благополучно прилетел на льдину дрейфующей сташции, доставив остатки ее оборудования.
Станция «Северный полюс» была открыта. Летчикам предстоял обратный, не менее трудный, полет. При этом оказалось, что горючего до о. Рудольфа не хватит. Но советские летчики не захотели взять ни одного литра из запасов
т. Папанина. Тогда т. Алексеев предложил: пусть все берут полный запас горючего, а я возьму остатки. Он решил лететь, пока хватит бензину. Когда же горючее выйдет, самолет опустится на лед. Затем кто-нибудь «подбросит» туда горючее.
Алексеев так и сделал. На полпути у него вышло горючее, он опустился и сообщил по радио свой адрес: «Северный Ледовитый океан, льдина № 3, дом № Н-172».
В своей заключительной телеграмме с Северного полюса, начальник экспедиции, тов. Шмидт, сообщал:
«В ночь на 6 июня закончили все работы по устройству станции. В 2 часа ночи, под ослепительным полярным солнцем, торжественным митингом открыли полярную станцию на льду в центре Арктики. С огромным подъемом подытожили результаты проделанной работы.
Тем временем моторы уже прогревались, все было готово к отлету.
В 3 часа 37 мин. все четыре самолета были в воздухе после короткого, но горячего прощания с четырьмя полярниками, остающимися на льдине для научной работы мирового значения. Мы покинули полюс с чувством радости и вместе с тем с некоторым невольным сожалением. Полюс оказался гостеприимным по отношению к советской экспедиции.
Обратный полет шел вполне успешно под мастерским водительством наших героев-летчиков. Летели над облаками. Как я уже сообщал, мы не могли дать бензина на все самолеты в достаточном количестве. Алексеев вызвался сесть в пути, чтобы дождаться бензина. С целью разведки в район 85-го градуса ночью был направлен самолет «Р-5» с летчиком Крузе, который благополучно сел и сообщал нам погоду. Алексеев и находящийся на его самолете мой заместитель Шевелев, видя, что бензина не хватит, несмотря на попутный ветер, приняли с моего согласия решение спуститься под облачность и искать место для посадки. Простились по радиотелефону. Остальные три самолета пошли дальше.
Спирин привел отряд точно к острову Рудольфа. Погода здесь была переменной, аэродром — под туманом, но в момент прилета временно прояснилось, и мы благополучно сели на островной аэродром. Тут же удалось установить связь с самолетом Алексеева. По сообщению Шевелева, лед у 85-го градуса оказался непригодным. Пошли в поисках в сторону. Наконец, Алексеев выбрал лучшую из плохих льдин и мастерски посадил самолет без царапины. Сейчас экипаж его самолета расчищает свой импровизированный аэродром, а мы на острове Рудольфа готовим самолет для доставки ему бензина. Ш м и д т».
Два дня провел экипаж Н-172 на льдине. Наконец, летчик Головин разыскал ее, опустился и снабдил самолет Алексеева горючим. Затем он поднялся и вернулся на о. Рудольфа. Вслед за ним прилетел Алексеев.
— Готовьте объятия, ужин и баню, -- радостно предупреждали герои своих друзей.
С о. Рудольфа самолеты экспедиции возвратились в Москву, переменив лыжи на колеса в Амдерме — флюоритовом руднике на берегу когда-то пустынного и недоступного Карского моря. Летчик Мазурук остался на зимовку на о. Рудольфа. Остальные были торжественно встречены населением Москвы, вождями партии и правительства.
Не успели участники экспедиции на Северный полюс вернуться в Москву, как весь мир узнал о другом замечательном подвиге советских летчиков. Герои Советского Союза товарищи Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки через Северный полюс, через всю Арктику, из Москвы в Соединенные Штаты Северной Америки. Через месяц (12—14 июля) этот замечательный полет повторили и продолжили до границ Мексики, побив мировой рекорд дальности полета, Герои Советского Союза Громов, Юмашев и Данилин. Этот мировой успех нисколько не снижает, а лишь подчеркивает авария с самолетом Леваневского, который оледенел и опустился где-то в районе полюса, потеряв радиосвязь. Самолет Леваневского искали советские летчики и американский летчик Уилкинс, совершившие ряд замечательных полетов вглубь Арктики. Но найти самолет в океане не легче, чем найти иголку в стогу сена. Сейчас всех занимает вопрос: что с Леваневским и его спутниками? Живы ли они? Есть ли надежда на их спасение? ¹⁷
7. Четверо смелых
В последней декаде августа 1935 г. пароход «Анадырь», на котором я в то время находился, прошел забитый льдом пролив Вилькицкого. Впереди расстилалось Карское море, почти совершенно свободное ото льда. В том, что первый грузовой рейс Северным морским путем из Владивостока в Мурманск будет закончен успешно, сомнений не было. «Анадырь» получил добавочное задание — подойти к мысу Челюскина и взять на борт зимовщиков полярной станции.
Дул сильный ветер. Вдоль берега быстро плыли большие обломки льда. Лавируя между льдин, наш моторный катер «Меркурий Вагин» подошел к берегу. Челюскинцы радостно приветствовали нас. Заметив меховые торбоза на одном из нас, плотный человек в кожаном пальто и высоких кожаных сапогах быстро вошел в мелкую воду, подставил свою широкую спину и через несколько секунд опустил обладателя меховых торбозов на каменную почву легендарного мыса. Человек протянул руку. Это был тов. Папанин.
Зимовка т. Папанина резко и выгодно отличалась от многих других. Все зимовщики были здоровы и бодры. Они провели деятельную зиму. Когда «Меркурий Вагин» вышел изо льдов в море, вспененное высокими волнами, со шлюпки, шедшей на буксире, упал один из деревянных ящиков, в которые было запаковано имущество зимовщиков. Молодой полярник заволновался. В ящике были чертежи проекта арктического самолета, над которым он работал всю зиму. Доставив людей, моряки «Анадыря» пустились вдогонку за потерянным ящиком и выручили его из плена плавучих льдов.
Из беглых скупых фраз зимовщиков складывался облик станции т. Папанина. Одной из важнейших научных задач полярной зимовки на мысе Челюскина являлся зимний промер глубин в проливе Вилькицкого. Для промера до сих пор долбили лед пешней. Чтобы продолбить одну лунку в двухметровом льду, требовалось, 5-6 часов тяжелой работы. В полярную ночь был поднят вопрос о механизации этих работ. Тов. Папанин издал приказ, в котором обращался ко всем зимовщикам с приглашением принять участие в этом деле. Было выбрано жюри.
Лучшим был признан проект старшего механика. Предложенная им машина была проста по конструкции и «ориентировалась на местные ресурсы». Тов. Папанин, отличный токарь по металлу, выполнил наиболее ответственные работы. К первому мая машина была построена. Под громкие крики «ура» всего коллектива, лед в 2 метра толщиной был просверлен в 3 минуты. Вскоре зимовщики добились того, что их машина просверлила лед в 45 секунд. Все задания были перевыполнены.
Вернувшись с мыса Челюскина в Москву, т. Папанин стал готовиться к дрейфу на льдине. «Успеха добивается тот, у кого все в порядке», говорил Амундсен. Папанин продумал все, до последней мелочи. Он снова проявил себя, как выдающийся организатор. Задача заключалась в том, чтобы обеспечить небольшой группе исследователей все необходимое для длительной и напряженной работы на льдине. Эту задачу тов. Папанин разрешил лучше всех прежних прославленных путешественников.
О своих спутниках, Кренкеле, Федорове, Ширшове, т. Папанин говорил: «Все они такие люди, которых ничто не сломит. Как только самолет Водопьянова опустился на льдину близ полюса, папанинцы немедленно взялись за работу. Была установлена знаменитая палатка, ветровой двигатель, радиостанция. Участники экспедиции прозвали Папанина «хозяином полюса». Еще не закончив своего строительства, папанинцы приступили к научным наблюдениям, результатыты которых, впоследствии коротко переданные по радио, восхитили ученых всего мира.
Научные работы станции «Северный полюс» велись непрерывно в течение девяти месяцев. Папанинцы работали по 16 часов в сутки, собрав громадный научный материал. Их работы заключались, прежде всего, в регулярном и точном астрономическом определении местонахождения станции, двигавшейся вместе со льдом. Теперь мы знаем направление и скорость движения льдов, покрывающих район Северного полюса. Оказалось, что льды полюса через восемь-девять месяцев втягиваются ледовитым течением, идущим вдоль восточных берегов Гренландии, и увлекаются им дальше на юг, к берегам Америки. Это непрерывное движение миллиардов тонн льда и создает суровый климат ее северо-восточных окраин.
За 274 дня жизни на льдине папанинцы проплыли вместе с ней 2100 километров, в общем направлении на юго-юго-запад. Наблюдения начались на 89° 26' северной широты и 78⁰ западной долготы и закончились на 70⁰ 48' северной широты и 19°48' западной долготы. Принимая во внимание многочисленные зигзаги и петли, которые описывала льдина, под влиянием местных ветров, в особенности в начале пути, расстояние, пройденное папанинцами, исчисляется приблизительно в 2500 км. Таким образом, средняя скорость дрейфа оказалась равной 9,1 километра в сутки, намного превысив все высказывавшиеся по этому поводу предположения.
Скорость дрейфа не оставалась постоянной. Иногда льдина двигаласъ в обратном направлении, иногда 2-3 суток стояла на месте, иногда же проходила в сутки до 43 километров. В общем, скорость дрейфа папанинцев закономерно увеличивалась по мере того, как они продвигались к югу.
Причиной этого дрейфа арктических льдов, по мнению товарищей П. Ширшова и
Е. Федорова, основанному на их наблюдениях, являются господствующие ветры. Наблюдения папанинцев показали, что «не вода увлекает лед, а движущиеся льды увлекают за собой верхние слои воды».
На станции «Северный полюс» непрерывно производились магнитные наблюдения, которые позволят составить карту склонений стрелки компаса в центре Арктики, что имеет большое значение для будущих полетов между СССР и США через полюс.
Была произведена серия работ по измерению силы тяжести на полюсе, обнаружившая значительное отклонение от нормы. Эти наблюдения будут учитываться при решении таких задач, как уточнение формы земного шара и т. п.
Особенный интерес вызвали блестящие гидрологические работы папанинцев. Впервые лот достиг дна в районе Северного полюса. Глубина океана здесь оказалась равной 4.290 метрам. При движении на восток глубина возрастала.
Наибольшая глубина, измеренная папанинцами на 80° 41' северной широты и 41' западной долготы, равнялась 4395 метрам. При дальнейшем дрейфе глубина уменьшалась, обнаруживая значительные скачки глубин. Около 84⁰ сев. шпроты была, найдена подводная воэвышенность. Глубина океана здесь равнялась 2380 метрам. Затем глубины снова начали возрастать.
Наибольшая глубина во время дальнейшего дрейфа к югу была обнаружена рядом с Гренландией, в 50-70 километрах от мыса Северовосточного. Здесь папанинцы вытравили весь трос, имевшийся на барабане их лебедки — 4160 метров, и впервые в их практике не достали дна. Это тем более интересно, что в последнее время удалось установить медленный дрейф самой Гренландии в западном направлении. Глубокая борозда у самых берегов Гренландии, найденная папанинцами, доказывает, повидимому, наличие указанных смещений и разрывов земной коры.
Под слоем холодной арктической воды на полюсе был обнаружен мощный слой более теплой и соленой воды. Таким образом было доказано, что струи Атлантического течения проникают в центральные области Ледовитого океана. Распределение температур в толще океана оказалось следующим: до глубины в 250 метров лежал слой холодной воды — минус 1,63 градуса. Начиная от глубины в 250 метров до 600 метров был обнаружен слой воды с положительной температурой, достигающей на глубине 400 метров плюс 0,77 градуса. На глубине 750 метров температура была близка к нулю, дальше она постепенно понижалась, достигая минимума на глубине 2500-3000 метров (минус 0,82-84). В придонных слоях температура воды снова несколько увеличивалась.
По мере движения к югу, до 81°, где у берегов Гренландии папанинцы вышли на край Атлантического потока, слой этого потока становился все более и более мощным, а максимальная температура на глубине 250-300 метров возросла до
+1,72 оС.
В то же время были произведены замечательные наблюдения над развитием жизни в водах Ледовитого океана. Близ полюса были взяты несколько глубоководных планктонных станций. «Жизнь центральной части Ледовитого океана, -- писали папанинцы, -- не исчерпывается только низшими организмами. В течение июля в район лагеря залетали четыре различных чайки, вчера была медведица с двумя медвежатами приплода этого года».
Краткие сообщения папанинцев, конечно, не исчерпывают всего огромного богатства добытых ими знаний.
Папанинцы жили и работали на льдине, все время ощущая тесную связь с пославшей их на подвиг родиной. Они находили время писать и передавать по радио подробные сообщения о жизни и работе на льдине. Их маленькая палатка стала всем близкой и любимой.
И советская страна с любовью смотрела на своих героев. 12 декабря 1937 года со-ветский народ избрал все население станции «Северный полюс» в депутаты Верховного Совета СССР.
По мере приближения к берегам Гренландии, скорость дрейфа стала увеличиваться. Первого февраля льдину папанинцев разбило штормом. Им пришлось оставить свою уютную палатку и перейти сначала в походную шёлковую палатку, а затем в снежный дом. В это время у кромки льдов Гренландского течения уже дежурило советское сторожевое судно «Мурманец». На помощь «Мурманцу» советское правительство послало ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». Вслед за ними из Ленинграда вышел ледокол «Ермак». 19 февраля «Таймыр» и «Мурман» пробились через мощные льды к станции Папанина. Героический дрейф закончился.
Папанинцы выразили свои чувства в следующей телеграмме:
«Безгранично счастливы рапортовать о выполнении порученного нам задания. От Северного полюса до 75 градуса сев. широты мы провели полностью все намеченные исследования и собрали ценный научный материал по изучению дрейфа льда, гидрологии и метеорологии, сделали многочисленные гравитиционные и магнитные измерения, выполнили биологические исследования.
С 1 февраля, когда на 74 градусе наше поле разломилось на части, мы продолжали все возможные в этих условиях наблюдения. Уверенно работали, ни минуты не беспокоясь за свою судьбу, знали, что наша могучая родина, посылая своих сынов, никогда их не оставит… В этот час мы покидаем льдину на координатах 70 градусов 54 минуты нордовой, 19 градусов 48 минут вестовой, пройдя за 274 суток дрейфа свыше 2500 километров. Наша радиостанция первая сообщила весть о завевании Северного полюса, обеспечивала надежную связь с родиной и этой телеграммой заканчивает свою работу.
Красный флаг нашей станции продолжает развеваться над ледяными просторами.
Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров.»
Блестящий успех советской экспедиции приветствовала не только Советская страна. Ее радость и гордость разделили и все лучшие люди капиталистических стран. Известный исследователь Арктики Стефансон писал накануне завершения советской экспедиции:
«Ни одна полярная экспедиция не была более совершенной в организации и проведении, чем папанинская. Эта организованность чувствовалась с момента основания станции Папанина на Северном полюсе до посылки ледоколов с аэропланами, которые теперь добиваются снятия группы со льдины, дрейфующей в Гренландском море.
Единственное, что получилось вопреки ожиданиям, — это быстрый дрейф льдины. Все арктические авторитеты здесь в равной степени ошибались, в том числе и я. Моя собственная точка зрения, высказанная советским властям по их просьбе в прошлом году, была, несомненно, типичной для всех исследователей Арктики: я утверждал, что скорость дрейфа, вероятно, не будет больше одной географической мили в день, в то время как в действительности она оказалась значительно выше.
Экспедиция Папанина, основанная на здравой и отважной концепции, походит на великолепное предприятие Нансена. Научные результаты папанинской экспедиции даже превышают то, о чем мы могли мечтать.
Опровержение Папаниным старой доктрины о том, что жизнь в Полярном море скудна, которой придерживался Нансен (если бы это было даже единственным достижением советской экспедиции), по моему мнению, является одним из наиболее важных научных открытий нашего времени. Но когда это сделано вместе с выполнением обширной программы метеорологических, магнитных, океанографических, химических, биологических и других исследований, то это становится, несомненно, новой вехой в истории научного исследования Арктики.
Исследователи и ученые всего мира восторженно отзываются о Папанине, Кренкеле, Федорове и Ширшове, об их смелости и компетентном выполнении своих задач, об О. Ю. Шмидте и Главсевморпути, заботливо обставивших эту трудную экспедицию, о советском правительстве, оказывающем последовательную помощь в исследованиях в больших размерах, чем какая-либо другая страна когда-либо сделала в этом отношении.
Вильмур Стефансон.
Лос-Анжелес, 18 февраля».
В таком духе высказывались многие передовые ученые Америки, Англии, Франции, Испании и других стран. По обыкновению злобно молчали только фашисты.
Кажется, скромнее всех оценивал свою работу сам т. Папанин. В своем дневнике он писал о ней, как о будничном деле, о выполненном долге. Он не успокаивался на достигнутых успехах. Еще не успели ледоколы подойти к льдине и снять героев, а Папанин уже обдумывал проект нового дрейфа, организации новой станции на льдине, на этот раз в самом сердце Арктики — на полюсе Неприступности. Надо узнать, как далеко распространяются теплые воды Атлантического течения, меняется ли в разные годы скорость ледового дрейфа, как ведут себя льды и ветры на Ледяном полюсе.
В этих мечтах весь Папанин — всемирно известный исследователь и рядовой гражданин Советского Союза.
5 марта 1938 г.
Сибирские огни, 1938, № 1, 113-130
Примечания
¹ М. Ломоносов. Краткое описание разных путешествий по Северным морям, и показание возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию. 1764.
² Гама -- Ва́ско да Га́ма (1460 или 1469-1524) — португальский мореплаватель, первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию.
³ «На день восшествия на престол, императрицы Елизаветы Петровны, 1752 года». Сочинения М. Ломоносова в стихах. СПБ, 1893.
⁴ Кола – старинный город и порт на Кольском п-ве, который неоднократно посещал
М. Ломоносов.
⁵ Аксель Альман. «Борьба за Северный и Южный полюсы».
⁶ каюр -- погонщик собак.
⁷ Р. Л. Самойлович. Путь к полюсу.
⁸ Проф. Н. Зубов. Большевики — завоеватели Северного полюса.
⁹ В некоторых популярных книжках говорится, что остатки экспедиции Андрэ были найдены на острове Белом в Карском море,но это явная ошибка.
¹⁰ В. Ю. Визе. Моря советской Арктики. Ленинград. 1936 г.
¹¹ Ру́аль Энгельберт Гравнинг А́мундсен (1872 -1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь. Первый человек, достигший Южного полюса (14.12.1911 года), побывавший на обоих географических полюсах планеты,совершивший переход и Северо-восточным (вдоль берегов Сибири), и Северо-западным морским путём (по проливам Канадского архипелага). Погиб в 1928 году во время поисков экспедиции Умберто Нобиле.
¹² Леване́вский – Сигизмунд Александрович Леваневский (1902-1937) — советский лётчик, Герой Советского Союза (1934). Погиб 13 августа 1937 г. во время перелета.
¹³ Бёрд – (Byrd) Ричард Эвелин (1888–1957), американский летчик, контр-адмирал, исследователь Антарктиды, национальный герой США. В мае 1926 г. первым совершил перелёт со Шпицбергена на Сев. полюс и обратно, первым в мире пролетел над Южным полюсом (1928-1930).
¹⁴ Чухновский -- Борис Григорьевич Чухновский (1898(18980409) -1975), советский авиатор, один из первых полярных лётчиков.
¹⁵ Бабушкин -- Михаил Сергеевич Бабушкин (1893 - 1938), выдающийся полярный летчик, Герой Советского Союза. Погиб при авиакатастрофе.
¹⁶ Ричард Бэрд. Над Южным полюсом. Ленинград, 1935 г.
¹⁷ В дальнейшем никаких следов самолета Леваневского и его экипажа не было обнаружено.
ДВЕ ВСТРЕЧИ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ
1. Моя встреча: о встрече с М.Горьким.
(Сибирские огни, 1928, №2)
1.
Многие писатели обязаны М. Горькому своим существованием. Он сделал писателями Федора Гладкова и Всеволода Иванова. Он переписывался, ободрял и поддерживал. Я не принадлежу к их числу. Моя встреча с М. Горьким ничтожна; но иногда и мелочь может быть характерной.
2.
Шел третий год войны. В студенческих столовках исчез хлеб, и я питался супом. Издававшийся Рейснерами журнал «Рудин», в котором должно было появиться мое первое стихотворение, закрылся. Надежда на большую жемчужину, фамильную драгоценность, не оправдалась: жемчужина оказалась подделкой. Я написал рассказ, направленный против войны, гордо назвав его романом. Рассказ назывался «Открытие Риэля». Аналогия между солнечной системой и атомом казалась в то время смелой. Я думал, что подобного представления достаточно, чтобы армии бросили оружие. Я был молод.
Пришла Февральская революция. Война продолжалась. Мой любимый товарищ, Лариса Рейснер, писавшая рецензии в «Летописи», отнесла «Открытие Риэля» Максиму Горькому. Скоро она принесла неожиданную весть: «Рассказ принят, но Горький хочет видеть автора».
Алексей Максимович принял меня в редакции. Он стоял за конторкой (такой же, как в «Обществе Взаимного Кредита»). Волосы его были коротко острижены. Я смотрел на эти волосы и думал, что Горький всегда был таким, а в журналах изображают его длинноволосым для театральности. Он достал мою рукопись. Он сказал, что рассказ ему понравился. Голос Горького был тихий и низкий. Он раскрыл рукопись и, посмотрев, сказал: «А вы не находите, что здесь надо еще поработать?». Я кончал университет и служил, я едва ли мог серьезно работать. Я замялся. Мой рассказ того времени мало походил на «Открытие Риэля», напечатанный в «Сибирских Огнях». Благородный пастор высказывал в нем высокие мысли, блоковская девушка смотрела на луну.
— Ну, ладно, — сказал Алексей Максимович быстро. — Только деньги, пожалуйста, потом. Ведь вы не нуждаетесь?
Рубашка на мне была белая и чистая.
— Вас не тянет написать социальный роман? — спросил он на прощанье. Я ответил, что «очень тянет», и мы расстались.
«Летопись» так же, как и «Рудин», закрылась прежде, чем для моего рассказа нашлось место. Я зашел за рукописью.
Алексей Максимович вернулся не скоро. Он подошел ко мне близко, как все близорукие люди. На нем был его обычный черный глухой пиджак и низкий воротничок с черным галстуком. Плечи казались приподнятыми. Я смотрел на него, подняв голову.
— Не могу найти, — сказал он, чуть разводя руками.
Мне было в сущности безразлично. Мы поговорили о том, что вообще «сейчас» нельзя печататься, не до искусства! «Но вещь мне понравилась, понравилась», повторил Горький, вероятно мне в утешение. Больше мы не встречались. На обратном пути Лариса Рейснер говорила о том, что в такое время надо крепче держаться за жизнь и не жалеть других. Мы работали в Наркомпросе. У Троицкого моста, у гранитной набережной, пищал беспризорный кот. Лариса Рейснер, в лирических стихах, говорила о себе в мужском роде, но она была женщиной. Она подобрала беспризорника и засунула его ко мне за пазуху. Я принес его домой, вместо «Открытия Риэля».
3.
В 1920 году я был «вридзавгуботюстом» в Красноярске. Это был первый оседлый год, считая с октября 1917 г. Я подписывал смертные приговоры в коллегии Губчека и выручал спешно приговоренных к смерти, председательствовал в «Реквизиционной Комиссии» и вводил революционную законность, раздавал церковное вино — губздраву, колокола — губсовнархозу и руководил «комиссией по охране памятников искусства и старины», работавшей в связи с отделением церкви от государства. В «Красноярском Рабочем» я редактировал «Бюллетень Распоряжений». В Красноярске были поэты. Я стал редактировать еженедельный литературный уголок, называвшийся «Цветы в тайге». Кажется, именно в «Красноярском Рабочем» было напечатано первое мое стихотворение. Город был вообще «литературным»: председателем губисполкома был в то время Феоктист Березовский. Но т. Березовский хитрил и писал тогда только мемуары и критику, направленную против современных, несуразных, по его мнению, литературных новшеств. «Цветы в тайге» были признаны товарищами из губкома «навозом в тайге», а редактирование их слишком легковесным для заведующего губернским отделом. Я был переброшен в Канск. Я был одновременно завагитпропом, завуполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда. В это время я получил копию «Открытия Риэля», сохранившуюся «чудесным образом», как говорили. Мне стало жаль воскресшей рукописи. Она могла пропасть бесследно в любую минуту. Я выкинул благородного пастора и блоковскую девушку, поместил «героев» в более подходящее место и напечатал на бумаге, принадлежавшей газете «Канский Крестьянин» книжку под названием «Страна Гонгури». На обложке стояла надпись: «Государственное Издательство». Это было совершенно незаконное и самозваное издание; но в данном случае я действовал по линии «охраны памятников искусства и старины». Расходы мне удалось вернуть. Канские крестьяне покупали книжку: бумага была подходящая для курева, а цена всего 20.000 рублей за штуку.
В прошлом 1927 году, после выхода моей книги «Высокий Путь», М. Горький прислал мне короткую записку. Там говорилось, что писать надо проще, что к людям и вещам надо подходить «изобразительно», а не «описательно» и что книга Михельса «От Кремлевской стены до Китайской» лучше «Каан-Кэрэдэ». «Открытие Риэля»,— писал Горький, — «было издано под титулом «Страна Гонгури» в Канске, в 22 году. Об этом вам следовало бы упомянуть. Сделанные Вами исправления не очень украсили эту вещь. Однако, мне кажется, что Вы, пожалуй, смогли бы хорошо писать «фантастические» рассказы. Наша фантастическая действительность этого и требует. Всего доброго. А. Пешков».
В те дни стояли большие морозы. Антициклон лизнул нас сухим языком. Ртуть Реомюра падала до — 40. Записка Горького была не менее суха и его «пожалуй» — даже сурово. Но почему-то всё же казалось, что это не морозный, а теплый туман Тирренского моря залил мою новосибирскую улицу Максима Горького. Если величайший писатель современности говорит, что он до конца жизни останется учеником, то что сказать о себе?. Но не потому, что «познание есть наслаждение», а потому, что познание -- страсть, как голод и любовь, ведущая к той же цели, независимо от того, радует она или мучает.
Новосибирск, 31 марта 1928 г.
__________
2. Две встречи с Максимом Горьким.
(Сибирские огни, 1932, № 11-12)
< >…В то время, когда из Новосибирска уезжали «последние из могикан», я возвращался с места зимовки парохода «Лейтенант Шмидт», застрявшего близ мыса Шелагского – крайней северной точки Чукотского побережья. Путь лежал через Верхоянск, полюс холода. Ветра свирепого Восточно-Сибирского моря и шестидесятиградусные морозы Якутии начисто смыли в моем сознании всякие литературные воспоминания.
Почта на севере не только принимает письма и подписку на периодические издания. Почта является единственным организатором пассажирского сообщения. У стола заведующего Верхоянским почтовым отделением стояла очередь.
-- Подпишитесь на журнал «Сибирские огни», -- сказал заведующий. -- Хороший журнал. Максим Горький хвалит.
Я перестал тереть коричневую помороженную кожу моего лица.
-- Самый сеп ( очень хорошо), -- согласился молодой якут.
Заведующий стал рыться в своих каталогах, искать подписную плату на 1932 год.
-- Нет, -- сказал он, наконец, смущенно. – Был такой журнал, -- а теперь нет.
В Якутске, в Незаметном, на Алдане я услышал то же самое. Только в Новосибирске я узнал, что в текущем году «Сибирские огни» не были включены в число подписных изданий, так что распространению журнала не обеспечен даже самотек. «Сибирские огни» выходили, но фактически не существовали. В самом Новосибирске на них трудно было подписаться.
Был случай, когда новосибирский почтовый служащий, знающий хорошо каталоги, ответил: «Такого журнала нет». – «Честное слово, есть!» -- сказал подписчик. Однако каталоги оказались сильнее действительности.
В июле я был в Москве. Мне представилась возможность встретиться с М. Горьким.
Первым впечатлением от встречи была радость. Год назад мне говорили, что Алексей Максимович «плохо выглядит». Алексей Максимович, мне показалось, нисколько не изменился за эти великие пятнадцать лет, когда я видел его в последний раз в приемной «Летописи». Мне показалось, он выглядит даже лучше, спокойнее и светлее.
На большой светлой террасе дома в Горках, откуда виден идиллический садик и обрыв речки, где после Москвы неожиданно оглушает тишина, за большим белым пустым столом я кратко, пожалуй, теряясь от необходимости выпалить все сразу, передал ему о положении наших дел.
-- Это Вы очень хорошо сказали о «парижской культуре», – заговорил Алексей Максимович своим прежним, неизменившимся голосом. – Жаль, что я сейчас не могу заняться вашими краевыми делами. Я очень занят. Они не только вас, ленинградскую «Звезду» довели до восьмисот экземпляров! Не знаю, что тут делают? Людей выгоняют… Надо гнать. Мы строим не один, а много центров культуры, парижские образцы нам не к лицу.
Я напомнил, что в этом году «Сибирским огням» исполнилось десять лет, что «Сибирские огни» -- второй по времени возникновения (после «Красной нови») литературно-художественный журнал Советского Союза и что об этом в печати не было ни слова.
-- Вот я бы написал о журнале, сказал Алексей Максимович, но где его достать? Я не получал его два года.
Мы заговорили о далеких наших северных странах.
-- Вы не встречали там Семенова? – спросил Алексей Максимович. – Как бы узнать его адрес? Он где-то между Якутском и Незаметным.
Алексей Максимович вспоминал вслух. Это был один из любимых его персонажей – человек отчаянного захолустья, искавший по-своему какого-то большого дела.
После революции Семенов стал наркомфином Якутской республики. Денег у республики не было. Тогда наркомфин реквизировал этикетки от винных бутылок, напечатал на чистой стороне установленное количество рублей и установленные подписи.
- Отличные получились деньги…
Я слушал Алексея Максимовича, и мгновениями мне казалось, что я читаю давно знакомый отрывок из воспоминаний великого писателя, так походил спокойный, простой голос М. Горького на все его творчество.
Наш разговор, видимо, затянулся. Вошел П.П.Крючков, секретарь Алексея Максимовича. Его ждали другие, пришедшие за помощью и советом. Два пограничника привезли Алексею Максимовичу толстую тетрадь красноармейских стихов и рассказов.
-- Мы еще встретимся, -- сказал Алексей Максимович, прощаясь. -- Через два дня я буду в Москве…
В назначенный день Алексей Максимович не приехал в Москву по болезни. Я не стал его ждать. Мне все время помнились слова В.И.Ленина в одном из замечательных его писем к Горькому: «Ваш план писать маленькие вещи для «Пролетария» меня очень радует. Но, разумеется, раз есть большая работа, не отрывайтесь». У Алексея Максимовича было много большой работы. Приближался Амстердамский антивоенный конгресс. Мы слишком часто отрывали Алексея Максимовича для наших «маленьких вещей», с которыми могли бы справиться сами. Я передал П.П. Крючкову для Алексея Максимовича фотографию разрушенного Чапея, выменянную мной на фотографии чукчей и моржей у проезжего немецкого кинооператора в сибирском экспрессе, адрес А.А.Семенова и всяческие просьбы. Я знал, что наша беседа не пройдет бесследно.
Правление ОГИЗ´а постановило распространять журналы, выходящие «в краях», наравне с центральными журналами, а распространение « Сибирских огней» в Москве и Ленинграде начать немедленно. Лозунг Горького «Не затирать областной литературы» должен быть осуществлен. Социалистическое расселение производительных сил приведет к социалистическому расселению культуры.
Пока же решающее слово принадлежит самим краям.
ПЕРЕПИСКА ВИВИАНА ИТИНА С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ
Примечания к письмам – из книги «Литературное наследство Сибири», т.1,
Новосибирск, 1969.
1. Итин – Горькому
Новосибирск, 27 ноября 1927г.
Дорогой Алексей Максимович!
Ваша замечательная память поможет Вам вспомнить автора «Открытия Риэля»¹ --- рукопись, которую Вы приняли в «Летопись» и затем (к лучшему) потеряли.
Нечего говорить о радости, какую бы мне доставил Ваш отклик (я, конечно, думаю о записке в несколько слов) об этой книге.
Здесь ведь с критикой неблагополучно!.
Крепко жму руку.
В и в и а н И т и н.
Новосибирск, ул. М. Горького, 48.
P.S. В Новосибирске я пробуду до 15/2 –1928г. Я работаю в комитете Северного Морского Пути и ранней весной ухожу в полярное плавание.
Датируется по дарственной надписи на посланной Горькому книге В. Итина – Высокий путь. Повести. М.-Л., Госиздат, 1927.
¹ См. воспоминания Итина. Рассказ «Открытие Риэля» опубл. в «Сиб. огнях», 1927, №1. Впервые отдельной кн. «Страна Гонгури» (Канск,1922).
2
Горький – Итину
Сорренто. Середина декабря 1927г.
Вивиану Итину
«Каан-Кэрэдэ» -- очерк, который Вам не удалось сделать рассказом.¹ На мой взгляд – книга Михельса «От Кремлевской стены до Китайской»² лучше «Каан-Кэрэдэ» и «Высокого пути», потому что – проще. У Вас слишком чувствуется напряжение писать «красиво». «Содержание» от этого проигрывает. К вещам и людям Вы подходите «описательно», а не «изобразительно», а еще никогда раньше вещи и люди не требовали с такой настойчивостью и с таким правом именно «изобразительности». Ведь вещи изменяются сообразно с изменением человека к ним. Картина «камлания» не ярка, фигура шамана – тоже. А – подумайте, -- какая это прекрасная тема: столкновение дикаря-колдуна с чудом техники, с фактом победы разума.
«Открытие Риэля»³ было издано под титулом «Страна Гонгури» в Канске в 22 году. Об этом Вам следовало упомянуть. Сделанные Вами исправления не очень украсили эту вещь. Однако мне кажется, что Вы, пожалуй, могли бы хорошо писать «фантастические» рассказы. Наша фантастическая действительность этого и требует.
Всего доброго.
А. П е ш к о в.
Автограф.
Датируется по ответному письму Итина 29 декабря 1927 г.
¹ Поэма в прозе «Каан-Кэрэдэ» опубл. В «Сиб. огнях», 1926г. № 1-2, позже переработана в киносценарий («Сиб. огни»,1928г. №4), вошла в кн. «Высокий путь». М.-Л.,1927. Последние изд.: «Каан-Кэрэдэ». Вступительная статья А. Коптелова. Новосиб. , 1961г.; «Страна Гонгури». Вступительная статья Ю. Мосткова. Новосибирск, 1983г.
² В. Михельс. От Кремлевской стены до Китайской. М. – Л., ГИЗ, 1928.
³ «Открытие Риэля» Горький прочитал в « Сиб. огнях», 1927, № 1.
3
Итин – Горькому
Новосибирск, 29 декабря 1927 г.
29/12 – 27г.
Дорогой Алексей Максимович!
Очень ценю Ваш отклик. В последние дни появилось несколько рецензий о моей книге. Все они положительные, если не считать рецензии С. Родова¹, который, по своей специальности, доказывает, что книга контрреволюционная и «представляет собой дальнейшее развитие сменовеховства». Поэтому, Ваш настоящий окрик мастера пришел как раз вовремя. Хуже всего останавливаться. Я согласен с Вами. Писать надо просто. Может быть я приближусь к этому в следующей книге «Чистый ветер» -- о полярных моряках. И поэтому же я нарочно откладываю давно «задуманный» роман «Конец страха» ². Это из Вас: « … но я был храбр, решил дойти до конца страха и вероятно именно это спасло меня».
Я не сделал ссылки на «Страну Гонгури», потому что это фантастическое издание почти никому не известно. Я очень удивлен, что книжка дошла до Вас и осталась в памяти. Тираж, кажется, 800. Экземпляров 700, наверное, купили канские мужики на цигарки, так как «Страна Гонгури» была очень дешева – 20 000 рублей за штуку, а бумага подходящая…
Одновременно я выслал Вам один из номеров «Сибирских огней». Может быть, Вам будет не безынтересно узнать (я думаю о последней главе свей статьи «Поэты и критики»³), как иногда живется в Новосибирске.
Антициклон лизнул нас сухим языком. Морозы достигают сорока градусов. Но, поверите ли, действительно становится теплее, когда нас вспоминают на Капри.
Крепко жму Вашу руку.
В и в и а н И т и н.
¹ Родов Семен Абрамович (1893 – 1968) – критик, один из руководителей журнала «На посту» (1923—1925). Выступая за создание пролетарской культуры, он подчас допускал грубые необоснованные выпады против писателей непролетарского происхождения.
² Отрывки из задуманных и начатых книг публиковались в « Сибирских огнях»:
«Страна Будущего» (глава из романа «Чистый ветер»). Сибирские огни, 1929, №1, С.3-18.
«Енисей» (из книги «Страна Будущего»). Сибирские огни, 1929, №6, С.3-20.
«Ананасы под березой» (глава из романа «Конец страха»). Сибирские огни,1933, № 1-2, С.85-95.
«Сон Люцифера» (глава из романа «Конец страха»). Сибирские огни,1933, № 9-10, С.130-134.
³ Доклад Итина на вечере «сибирской поэзии» в Новосибирске 20 апреля 1927 г. (см. «Поэты и критики» -- «Сиб. огни», 1927, № 2).
4
Итин – Горькому
Новосибирск, 5 апреля 1928г.
Дорогой Алексей Максимович!
Мне сообщили, что Вы справлялись в Госиздате о моем адресе. Рад, конечно, напомнить Вам о себе (если все это не смешная ошибка). Мой адрес: Новосибирск, ул.М. Горького, 48. Мой постоянный адрес, также, -- «Сибирские огни», где я шестой год веду «отдел поэзии».
Посылаю Вам мои воспоминания (к Вашему юбилею)¹. Увы, как все авторы, я больше пишу о себе, чем о Вас. Мне не удалось также достаточно оттенить Вашу нечеловеческую (простите, такие слова Вам не нравятся) внимательность.
В. Зазубрин просил Вас написать о «Сибирских огнях»². Напечатайте Ваш отзыв в «центре». Хочется сказать Вам, почему это нужно. Провинциальное критическое сознание необычайно авторитарно, как Вы знаете. Между тем в центре о «Сибирских огнях» молчат или очень невежественно ругают, (иногда, впрочем, появляются положительные отзывы об отдельных произведениях, напеч[атанных] у нас) – если помните – «На лит[ературном посту]»…³ Дело не в том, Алексей Максимович, что я «жалуюсь». Я не жалуюсь. Я уверен, что под нами твердая почва. В Новосибирске не бывает землетрясений, хотя здесь и строят ненужные (дорогие) железобетонные дома… Но нам мешают. Странно и невесело писать об этом. Как будто бы: «Сибирск[ие] огни» явление совершенно исключительное, в том смысле, что дореволюционная провинция никогда ничего равного этому журналу не знала; как будто бы: коммунистическое общественное мнение должно всячески поддерживать этот журнал… Есть раздражающие факты. Недавно на пленуме Сиб[ирского] краевого комитета партии, в связи с докладом о «культурной революции», был поднят вопрос о «Сиб[ирских] огнях» и писателях. Ни меня, ни даже В. Зазубрина на высокое собрание не пустили, хотя оба мы партийные коммунисты. Потом мы прочитали отчет (жалею, что не могу послать его Вам – «Сов[етская] Сибирь» от 7 марта), -- там говорилось, что «Сибирские огни» захвачены незначительной группой (у нас в каждом номере появляется новое имя), что они неблагонадежны в политическом отношении: например – один мальчик посвятил свои стихи
Н. Гумилеву 4, это объясняется тем, что пять лет назад (Sic!) в «Сиб[ирских огнях]» было напечатано, что Гумилев оказал большое влияние на современную поэзию (заметка принадлежит мне, ответств[енным] редактором был тогда Ем. Ярославский, см. «Сибирские огни» №4, 1922г. –«Библиографический справочник»). На собрание справка о Гумилеве «произвела впечатление». Человек, говоривший это, А. Курс5, зам. зав. отделом печати, прославившийся как автор сценария скандальной фильмы «Ваша знакомая» (теперь запрещенной), редактирует издающийся с января этого года журнал «Настоящее»6 .
Это отрыжка «Лефа». Журнал не признает «литературы», выдумки, он за «настоящее», попросту за фельетон. О писателях приводятся такие «факты» (говорится о «разложении» некоего комсомольца) -- … «у него два комплекта друзей: одни – райкомовцы, совпартшкольцы, «братва», другой – местные литераторы. Даже время вне службы он проводит двояко: один вечер «коблит с братвой», а другой совершает «ночные встречи», т.е., попросту говоря, шляется вместе с этими самыми поэтами по всем пивным города, из одной в другую…» (Настоящее», № 1, январь). Нечего говорить, что «есенят» у нас в Новосибирске, нет…
Перечитал написанное и, конечно, недоволен. Если писать, то надо было бы писать подробно. Впрочем, надеюсь на Вашу «нечеловеческую» внимательность.
Все это очень ясно. Зависть, бюрократизм, глупость были, есть и не скоро переведутся. Литература всегда была ненавистна. Она причиняет беспокойство. Здесь мечтают: « Вот, теперь (после появления «Настоящего») «Сибирские огни» закроются. Надоели!» Это реально, но, конечно, не страшно. Мы с этим справимся. Я хотел бы только помочь Вам правильнее выполнить Ваше обещание. «Сознание авторитарно», и какой-нибудь окрик в Москве очень пригодится нашим «доброжелателям». Ваша же статья, заметка, интервью – безразлично -- это предотвратит, по-настоящему поможет.
Я посылаю Вам вырезку из «Недели Советской Сибири»7.Тоже любопытно: с одной стороны портрет (как же, юбилей справляет весь Союз!), а с другой «известный пролетарский писатель» пишет о просто М.Горьком и, «между прочим», подчеркивает, что материал направлен против Вас.
Это, кажется, тоже из-за Вашего «пристрастия» к «Сиб[ирским] огням»…
Простите, Алексей Максимович, возможно, что я теряю объективность из-за «раздражающих фактов». Вам, из «прекрасного далека», виднее.
Весна у нас еще не начиналась. Ставни рвет вьюга.
Крепко жму Вашу руку.
В и в и а н И т и н.
P.S. Посылаю фотографию (это «любительское» произведение В.Зазубрина). Надеюсь, не сочтете сентиментальностью. Просто приятно увидеть незнакомого человека, если случилось с ним переписываться.
Кстати, кто этот Свирский?8 Я, честное слово, довольно начитан, а не знаю этого «известного».
Почему в полном собр[ании] Ваших сочинений нет рассказа «Лампочка» (О том, как омские мужики вводили электрификацию. Это, кажется, первый рассказ о творческих силах революции. 1918г.)9.
P.P.S. Между нами: Анисимов это А. Воронский.10
Автограф.
¹ « Моя встреча» - «Сиб. огни», 1928, № 2 и настоящ. изд.
² Высылая комплект «Сиб. огней» за 1926-1927гг., Зазубрин писал Горькому 4.11.1928г.: «Если будет время и охота у Вас, то напишите коротенько свое мнение о нашем журнале. Не скрою корыстных расчетов – Ваш голос поможет нам здесь, он утвердит наше право «на песню» («М. Горький и советская печать», т.Х. кн.2, с. 342). Горький ответил 23.02.1928г. «Пришлю Вам «рецензию», если Вы и товарищи Ваши по журналу желаете этого» (там же, с. 344). Вместо обещанной рецензии Горький прислал приветствие съезду литераторов Сибири, который предполагалось провести в апреле. Приветствие напечатано в «Правде», 1928, 20.04.
³ Н. Н. По журналам. [«Сиб. огни» № 2] – «На литературном посту», 1927, № 10, с. 49.
⁴ Гумилев Николай Степанович (1886 – 1921) – поэт, переводчик, чл. редколлегии изд-ва «Всемирная литература». Октябрьскую революцию встретил враждебно. Итин выступил с рецензией на сб. Гумилева «Огненный столп» («Сиб. огни», 1922, № 4).
⁵ Курс Александр Львович (1892 – 1939) – журналист, в 1928-1929 гг. – редактор газеты «Советская Сибирь» (Новосибирск).
⁶ Иллюстрированный журнал «Настоящее» (Новосибирск, 2.1928 –1.1930), с №2 – редактор А. Курс, создавший лит. группу «настоященцев» (в 14 человек), близкую к ЛЕФу. «Настоященцы» объявили, что «художественная литература реакционна по своей природе», что якобы ей на смену идет «литература факта – газетная литература». «Революционные фразы Курса и других «настоященцев» звучат не только грамматически, но и идеологически малограмотно. Вместе с «лефовцами» «настоященцы» действительно стараются изъять из рук рабочего класса такое сильное оружие, каким является словесное искусство». ( М. Горький – М.А. Савельеву, редактору «Известий» 13.09.1929г., см. «М.Горький и советская печать» т.Х., кн.2, стр. 360). После Постановления ЦК ВКП (б) от 25. 12. 1929 г. «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького» группа «Настоящее» самораспустилась, журнал прекратил существование.
⁷ «Неделя Советской Сибири» - приложение к газете «Советская Сибирь», выходившее в 1927 г. (июль- декабрь, №№ 1 – 28), в 1928 г. (январь-сентябрь, №№ 1 – 34).
⁸ Свирский Алексей Иванович (1865 – 1942) – писатель, автор повести «Рыжик», выступил с воспоминаниями о Горьком: «Встречи» («Красная новь», 1928, № 3); в письме «Известиям» Горький указал на некоторые фактические ошибки, допущенные Свирским («Известия», 1928, 8.04). Свирский признал справедливость этих замечаний (« Известия», 1928 , 4.07).
⁹ 5.01.1933г. М.Горький писал В. Итину: «Рассказ «Лампочка», о котором спрашиваете Вы, написан не мною, а моим сыном Максимом, который был в Сибири в 18 году и сам видел эту лампочку в действии. Я подписал этот рассказ черт знает зачем, м. б., потому, что, подписанный М. Пешковым, он не обратил бы внимания Ю.Стеклова, редактора «Известий» (Собр. соч., т. 30, 1955, с. 274).
Е.Беленький в своей работе «Горький и Сибирь» указывает: «Известия» публиковали рассказ не по рукописи, а перепечатали его из газеты «Новая жизнь» (1918, 6.06). Под рассказом подпись – М.Горький (см. книгу Е.Беленького «Писатели моей земли», Новосибирск, 1967, с.56).
¹⁰ Воронский Александр Константинович под псевдонимом Л.Анисимов выступил со статьей «Вопросы художественного творчества» («Сиб. огни»,1928, №1), Горький ответил статьей «О себе (письмо Л. Анисимову)» («Сиб. огни»,1928, №2). Статьи вызвали острую полемику.
5
Итин – Горькому
Новосибирск,12 июля 1928г.
Дорогой Алексей Максимович!
Новый состав редакции «Сибирских огней» следующий: А.Ансон (Зам. Завед. Сиб. Отдела Народного Образования)¹, А. Оленич-Гнененко (известный в Сибири поэт, работающий в Краевом Комитете ВКП)² и я.
Если Вы следили, как мне сообщали, за литературной «войною»³ в Сибири, лицо нашей редакции должно быть для Вас ясно. Разумеется, мы, коммунисты, признаем прежние ошибки журнала и постараемся сделать его возможно более боевым и современным⁴.
Разрешите рассчитывать и на Вашу помощь в этом деле.
Редакция просит Вас и впредь сотрудничать в журнале, присылая художественные произведения, статьи, отрывки, наброски.
Журнал будет Вам высылаться.
Отв[етственный] секретарь редакции В. И т и н.
Машинопись с подписью. В подлиннике штамп журн. «Сиб.огни».
¹ Ансон Александр Антонович ( 1890-1937?) – общественный деятель, журналист, участник револ. движения в Сибири, редактировал в начале 20-х г. газеты в Канске и Красноярске, сотрудничал в жур. «Сиб.огни», «Просвещение Сибири», автор и редактор ряда краеведческих учебников и учеб. пособий.
² Оленич-Гнененко Александр Павлович (1893 -1963) – поэт, очеркист, участник революционного движения в Сибири, организатор жур. «Искусство» (Омск,1921), редактировал в Омске «Рабочий путь», партийный работник.
³ «Литературная война» -- полемика Сиб. Союза писателей, возглавляемого Зазубриным, с группой «Настоящее» и СибАПП , приобретшая характер политических обвинений.
⁴ Резолюция Бюро Крайкома ВКП(б) о журнале «Сибирские огни» отмечала его «серьезные идеологические ошибки», и редколлегия, состоявшая из М.Басова, В.Вегмана, В.Зазубрина, Г.Круссера и Г.Черемных, была в 1928г. распущена.
6
И т и н – Горькому
Новосибирск,28 января 1930г.
Съезд сибирских писателей приветствует великого революционного писателя Алексея Максимовича Горького, просит в ближайшем будущем посетить Сибирь и выражает надежду снова увидеть Ваше имя на страницах «Сибирских огней»¹.
И т и н.
Рукописное на телеграфном бланке.
Впервые опубликовано в «Сибирских огнях», 1930, № 1.
¹ Приветственная телеграмма Итина была направлена М.Горькому от имени президиума Второго съезда Сибирского Союза писателей. На съезде В.А.Итин выступил с докладом «Пути сибирской литературы». Съезд принял решение о реорганизации Сибирского Союза писателей в сибирский отдел Всероссийского союза советских писателей. Одновременно оформилось сибирское отделение Всероссийского общества крестьянских писателей. 4.02.1930 г. литературные организации Сибири, включая СибАПП, образовали сибирское отделение федерации советских писателей (ФОСП). В новую редколлегию «Сибирских огней» вошли: А.Ансон, А.Высоцкий (ответственный редактор), П.Запорожский, В.Итин, Н.Чертова.
7
Итин – Горькому
Новосибирск, 13 июня 1931 г.
13/06--31
Дорогой Алексей Максимович!
Н. Чертова¹ сообщила мне о Вашем намерении написать статью о рациональном использовании писателей-коммунистов (что-то в этом роде) и передала Вашу просьбу сообщить Вам конкретный материал для этой статьи.
Очень охотно делаю это, т.к. псих[олог]ические «гормоны» для СССР сейчас важнее физиологических (хотя они и связаны).
Вот маленький пример.
Недавно я послал Вам мою книгу очерков о Северном морском пути «Выход к морю»². Там, в начале последней главы, есть маленькое лирическое отступление на тему, почему «чем дальше к востоку, тем книги пишутся медленнее».
Работа над книгой шла так.
Вернувшись из трехмесячной Карской экспедиции, я принялся за работу над «Выходом к морю». В два месяца, до января, я написал больше половины книги. Затем начались писательские съезды, в организации которых я должен был участвовать, и я был отвлечен от работы. Затем, сразу после съезда, я был мобилизован на посевную кампанию. Должен сказать, что Крайком партии предложил мне отсрочку – для окончания книги; но «уважаемые товарищи» окружили меня такой травлей по этому поводу, что я немедленно уехал, бросив работу. Возвратившись в мае, я снова взялся за книгу, но через 2 недели я был призван на военную службу, для переподготовки. Таким образом, книгу я смог кончить только осенью. Работа, для которой мне надо было 3-4 месяца, потребовала 10 месяцев. Затем ее издавали месяцев 9. Так складываются элементы «отставания».
Нечего говорить, что так, с некоторыми вариациями, повторяется каждый год…
Накопилось много замыслов, много материала. Если бы Вы знали, Алексей Максимович, как иногда хочется получить возможность спокойно поработать хоть полгода!
Я сейчас работаю в Комсеверпути. «Литературой занимаюсь в свободное от занятий время».
Крепко жму руку.
Пользуюсь случаем, чтобы передать Вам от Правления Комсеверпути следующее. Если у Вас появится когда-нибудь желание взглянуть на зеленые северные моря, на солнечную ночь и полярные сияния, на социалистическую стройку за Полярным кругом, мы всегда готовы предоставить Вам наилучшие условия. Полярный воздух чист и лишен бактерий. Мне кажется, он полезен для легких и для всего организма; но конечно, здесь должны сказать свое слово врачи.
Желаю Вам здоровья для работы.
В и в и а н И т и н.
Новосибирск, Трудовая,82.
¹ Чертова Надежда Васильевна (1903) – писательница, печаталась в «Сиб.огнях» (1927-1947гг.), переписывалась с Горьким (см. «Горький и Сибирь», Новосиб., 1961, с. 146-149).
² В. Итин. Выход к морю. Очерки. М., 1931. Первоначально печатались в жур. «Сиб. огни»,1930,№ 1-2, 4,8 и 9.
8
Итин – Горькому
Новосибирск, 16 декабря 1932 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Сокращенную копию прилагаемой статьи я дал «Лит[ературной] газете»¹. Редакция приняла статью, но отправила ее в Ваш аппарат в Москве, который долго не давал ответа. С тем я и уехал. В наст[оящее] время я хочу напечатать ее в «Сиб[ирских] огнях». Я считаю ее нужной для нашей перестройки (вторую главу, конечно).
В последнее время Крайком партии вынес несколько решений, коренным образом ликвидирующих прежнее отношение к писателям. В частности в Новосибирске О.К.² выдано 5 квартир в новых домах. ОГИЗ занялся изданием художественной литературы. Тираж «Сиб[ирских] огней» с будущего года увеличивается. Удваивается гонорар (300 р[ублей] лист, что у нас считается достижением) и т.п.
Фракция О.К. постановила назначить меня отв[етственным] редактором «Сибирских огней» (с 1930 г. я мало там работал)³. Это, вероятно, и будет осуществлено с января.
Прошу Вас поэтому, дорогой Алексей Максимович, прислать нам в «Сибирские огни» Ваш давнишний «сибирский» рассказ, который я не мог разыскать здесь и заглавие которого не помню, но содержание помню очень ясно.
Рассказ ведется фронтовиком, побывавшим на родине, под Омском. Фронтовик рассказывает, как на средства, конфискованные у кулаков, деревенские коммунары решили купить динамо-машину и завели у себя (1918г. !) электрификацию.⁴
В собрании сочинений рассказа нет. Читал я его в 1918г. в уфимской газете (конечно, перепечатка).
Вот бы нас порадовали!
Ваш В и в и а н И т и н.
Новосибирск, проспект Сталина, д.3/5,кв. 9. В. А. Итин.
P.S. Просьба сообщить, по какому адресу Вам высылать «Сибирские огни» в 1933г.
Автограф.
¹ Статья Итина «Две встречи с М.Горьким (М. Горький и советская литература в Сибири)» -- «Сиб. огни»,1932, № 11-12.
² О.К. -- Орг. Комитет по подготовке Первого Всесоюзного съезда писателей.
³ Итин был редактором журнала в 1933 – 1935гг.
⁴ Речь идет о рассказе М.Пешкова (сына Горького) «Ланпочка».
9
Горький – Итину
(Сибирские огни, 1933, 1-2; А.М.Горький. Собр.соч., т.30, 1955, с.274)
5 января 1933, Сорренто
Вивиану Итину
Очень рад узнать, что "Сибирские огни" снова разгораются, искренно желаю им разгореться ярко, уверен, что это так и будет.
Если Вам удастся организовать бригаду энергичных огнелюбов да вместе с ними привлечь работать побольше молодежи и пригреть ее внимательным, дружеским к ней отношением, дело пойдет отлично. Смысл дела -- воспитание областной культурной интеллигенции. Очень хорошо помню Ваши верные и меткие слова о "парижской культуре", - они ко многому обязывают Вас, и я твердо верю, что с обязанностью этой вы справитесь, ибо когда хорошо понимаешь, так и работаешь не плохо.
Рассказ "Лампочка", о котором спрашиваете Вы, написан не мною, а моим сыном, Максимом, который был в Сибири в 18 году и сам видел эту лампочку в действии. Я подписал этот рассказ чёрт знает зачем, м. б., потому, что, подписанный
М. Пешковым, он не обратил бы внимания Ю. Стеклова, редактора "Известий". Рассказа этого ни у меня, ни у сына -- нет. Вместо него я пришлю Вам что-нибудь другое, верьте, но -- пришлю не скоро.
Не находите ли вы нужным ввести в оргкомитет Союза писателей кого-нибудь поэнергичней от сибирской группы? Нам нужно устроить всесоюзный съезд литераторов, перезнакомиться, поговорить о многом. Вот -- для писателей Ленинграда хотят строить "городок", -- дело, конечно, доброе, но одной заплаты на все рубище -- маловато, не так ли?
Крепко жму Вашу руку, желаю Вам бодрости духа. Журнал посылайте по итальянскому адресу. Статью Вашу прочитал, надеюсь - она не вызовет полемики, которая в данном случае была бы излишней.
А. П.
10
Итин – Горькому
Новосибирск, 16 апреля 1933 г.
16/04--33
Дорогой Алексей Максимович!
Все мы очень благодарны Вам за письмо.¹ Надеюсь, наша небольшая группа писателей сумеет кое-что сделать, несмотря на всяческие препятствия.
Мы не мечтаем о «городке»; но построить дом, усилить типографию, главное же, создать маленькое издательство художественной литературы, м[ожжет] б[ыть], отделение ГИХЛа или «Советской литературы», подчиненное краевому Оргкомитету, необходимо. В первую очередь это надо сделать в некоторых крупных центрах отдаленных и своеобразных областей: Ростов н/Дону, Свердловск, Новосибирск, Иркутск; не случайно, что именно там Академия Hаук создает свои филиалы.
Вы спрашиваете: не надо ли энергичного сибиряка посадить в Оргкомитет СССР? ²
Ну, мы, конечно, ответим: надо; для более энергичной драки! Не буду перечислять наших многочисленных обид. До сих пор неизвестна, в сущности, даже принципиальная «установка» Оргкомитета по части периферии. Поэтому мы чувствуем себя жителями невидимой стороны Луны… Лучше всего, мне кажется, ввести в будущее правление Союза, на съезде, представителей некоторых краев, в качестве полноправных членов. Тогда станут невозможными случаи, вроде случая с нашим писателем Стрижковым, членом оргкомитета Зап[адной] Сибири, который, будучи в Москве, пришел на последний пленум (у нас есть драматурги), какой-то служащий (по словам т. Стрижкова)³ сказал, что ему там нечего делать. Стрижков человек больной, драться не стал, ушел, унося с собой обиду.
«Сибирские огни» Вам высылаем. Они страшно задерживаются нашей типографией. Первый номер ( мы перешли на более толстый двухмесячник) еще не вышел. Ваше обещание и необыкновенная история с «Ланпочкой» поразила нас и обрадовала. Тем более, что «Бумага» ( по Леонову особый вид нечистой силы) нас терзает.
Посылаю Вам мою книжечку: «Морские пути Советской Арктики» -- плод зимовочных размышлений⁴. Что же касается моей повести «За жизнью»⁵, то Московское товарищество писателей, после того, как книга была уже набрана, отказалось ее печатать, сообщив, что «бумагу сократили». Дележ бумажного пирога, разумеется, всегда идет за счет того, кто дальше. У нас в Зап. Сиб. ОГИЗе книжка снова принята (Б.Г.Чухновский написал к ней привлекательное для издательств предисловие), но также не печатается. Томительнейшее это ощущение!
Сейчас работаю над книгой очерков «Восточный вариант».⁶ Хочется подняться на какую-то следующую ступень. Наша изолированность этому не содействует. Вот, дошли до меня слухи, неизвестно от кого, каким путем (может быть, сплетни), что Вы передали мои очерки «Выход к морю» т. Сталину с каким-то отзывом. Жителю невидимой стороны Луны ужасно это интересно!⁷ Кто бы мне написал? Сами не пишите. Искренне боюсь оторвать Вас от работы.
Ваш В и в и а н И т и н .
Автограф
¹ Письмо Горького Итину от 5.01.1933 (см. Собр. Соч. т. 30,1955, с.274-275).
² После Постановления ЦК ВКП (б) от 23.04.1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» был создан Организационный комитет во главе с М.Горьким.
³ Стрижков Петр Николаевич (1900-1933) – писатель- очеркист, 1925—1933гг. печатался в «Сиб. огнях» автор нескольких книг. См. «Литературная газета», 1933 , №44, 23.09 (некролог).
⁴ В.Итин. Морские пути Советской Арктики. С предисловием пред. Комсеверпути Б.В.Лаврова. М., «Северная Азия», 1933.
⁵ Речь идет о повести «Белый кит». Главы печатались в жур. «Сиб. огни», 1931, №6. Отдельным изданием с пред.
Б. Чухновского выпущена в Новосибирске (1933), отрывок из повести «Профессор читает беллетристику» напечатан в «Советской Сибири»,1933, № 163, 28.07. Экземпляр этой газеты хранится в Архиве А.М.Горького с пометкой Итина «Просьба показать Ал. Максимовичу…».
⁶Очерки Итина «Восточный вариант» печатались в «Сиб. огнях» с 1930г. В Архиве А.М.Горького хранится машинописный экземпляр очерка В.Итина «Земля стала своей» с правкой Горького. Очерк предназначался для жур. «Колхозник». Напечатан в «Сиб. огнях»,1935, №2.
⁷ Каких либо других сведений об этом не сохранилось.
11
Итин – Горькому
Новосибирск 22 июля 1934г.
Дорогой Алексей Максимович!
Посылаю Вам копию «Ланпочки», в том виде, в каком она сдана в №4 «Сибирских огней», с моим предисловием.¹
«Пользуюсь случаем», посылаю статью («Перед съездом») с просьбой, если найдется время, прочитать (стр.5) о довольно частых, по-моему, случаях извращения Ваших статей о языке².
Вторую статью – «Привидение, которое возвращается» -- я прошу Вас напечатать, если найдете нужным, в Москве.³
Ваш В и в и а н И т и н.
22/07—34 г.
Надеюсь, Вы получили письмо, посланное Вам недавно Краевым съездом ССП.⁴
Автограф с пометками Горького.
¹ М.Пешков. – Ланпочка.-- «Сиб. огни», 1934, № 4.
² Стенограмма выступления В.Итина на третьем пленуме Всесоюзного Оргкомитета писателей по докладу П.Ф.Юдина (март 1934). Горький подчеркнул заглавие и приписал: «Опоздала». Вероятно, для Горького дискуссия, начатая его «Открытым письмом А.С.Серафимовичу» («Литературная газета», 1934, №17, 14.02), завершилась обсуждением проблем языка художественной литературы на совместном заседании писателей с учеными-лингвистами в Оргкомитете ССП (см. «Литературную газету»,1934, 12.04). Стенограмма Итина опубликована в ж. «Сиб. огни», 1934, №4 под заголовком «Литература и критика».
³ О какой статье идет речь установить не удалось.
Имеется в виду Первый съезд писателей Западной Сибири (Новосибирск, 19-24.06.1934). Итин выступал с отчетом о работе «Сиб. огней» («Сиб. огни», №4)
12
Итин – Горькому
Новосибирск,28 апреля 1935г.
Дорогой Алексей Максимович!
Авторы книжки «Атаман Пузырь» -- бывшие беспризорники.¹
Они пишут мне:
«Мы внимательно отнеслись ко всем Вашим замечаниям (кстати сказать, очень кратким и недостаточным. -- В.И.) и по силе своих знаний и умения исправляли и добавляли черновой материал.
Сегодня книга вышла из печати. Скромненькая обложка, -- 118 страниц и в конце под жирной линеечкой несколько простых слов:
«Набрано, отпечатано и сброшюровано силами коммунаров Томской трудовой коммуны».
Это очень просто, но сколько в этой строке радости даже для нас. Мы, вчерашние шарлатаны, социальноопасные для общества, сегодня стоим у касс, в руках с верстатками, стоим у печатной машины, фальцуем, шьем и переплетаем.
Мы, -- вчерашние беспризорники, -- написали, без посторонней помощи, книгу из своей жизни.
Думали ли мы когда-нибудь об этом? Конечно, нет.
Нам, в общем, трем авторам, пятьдесят четыре года, из них пятнадцать лет мы жили на улице.
Мы прекрасно понимаем, что в нашей стране есть много недостатков, нам еще нужно серьезно и долго учиться и мы это делаем настойчиво, кропотливо…»
Мне кажется, «Атаман Пузырь» -- хорошая книжка, она очень обрадовала меня.² Надеюсь, Вы найдете время ее почитать. Посылаю ее Вам.
28 апреля 1935г.
Ваш В и в и а н И т и н.
Машинопись с подписью.
¹ Б.Иртышский, Е.Дульнев, В.Корнев. Атаман Пузырь. Томск,1935. В письме авторам от 15.05.1935 г. Горький писал: «Книжка читается с большим интересом, но было бы еще интереснее, если б вы дали рукопись проредактировать какому-нибудь опытному литератору или же прислали ее мне…» (Собр. Соч., т.30, 1955, с.388). Пожелание Горького было учтено: в 1936г. в Новосибирске вышло второе изд. повести, отредактированной Итиным. Последнее изд. кн. «Атаман пузырь» осуществлено в Томске, 1960.
² Итин написал рецензию «Юные и счастливые граждане» -- «Сиб.огни»,1935, № 3.
ВОСПОМИНАНИЯ О А.М.ГОРЬКОМ:
Друг и учитель
Величайший из современных писателей Максим Горький был в то же время величайшим организатором и учителем советской литературы.
Трудно представить, каким образом Алексей Максимович мог находить время, чтобы справляться со всеми своими бесчисленными обязанностями. Не переставая до конца своей жизни создавать гениальные художественные произведения, непрерывно и беззаветно борясь за дело коммунизма как трибун и пламенный журналист, Максим Горький в то же время был редактором целого ряда литературно-художественных журналов, книг, изданий и председателем Правления Союза советских писателей СССР. Ни одну из этих работ Максим Горький не считал только «почетной обязанностью». Он действительно работал всюду, где партия выдвигала его, как руководителя. Он вел переписку, которая, будучи собрана, составит, вероятно, не меньшее количество томов, чем его основные художественные произведения.
Насколько внимателен был Алексей Максимович к рукописям, поступавшим в редактируемые им издания, я могу судить по одной моей рукописи для журнала «Колхозник», прочитанной М.Горьким. Рукопись была предварительно прочитана рядом опытных литераторов. И все-таки Алексей Максимович отметил две-три таких детали, сделал такие поправки, которые были пропущены другими редакторами. В этом отношении глаз М.Горького обладал абсолютной точностью.
Многие советские писатели говорят, что они обязаны Алексею Максимовичу самим своим существованием, как писателей. Никто не мог так безошибочно открыть новый талант. Никто не мог так просто и по-дружески поддержать начинающего писателя. Мнение Горького в вопросах оценки литературных произведений было высшим законом для всех советских писателей. Но Горький умел не только выдвигать и поддерживать писателей, он умел быть беспощадным, когда встречался в литературе с людьми неискренними, примазавшимися. Он не выносил равнодушия. Он не мог терпеть людей, для которых литература была не творчеством, не борьбой, а выгодным и приносящим почет ремеслом. Горький воспитывал ненависть к такому ремесленному равнодушию и призывал советскую литературу к подлинным высотам искусства, к высотам идейности, к художественному изображению самых великих идей и кардинальных вопросов борьбы за нового человека, за коммунизм.
Максим Горький первый оценил огромное культурное значение советской литературы. Он учил, что освобожденные Октябрьской революцией народы выдвинут тысячи новых талантов, что литература больше не будет привилегией немногих столичных центров. Он находил время прочитывать и давать указания множеству советских юношей и девушек, стремящихся к самостоятельному творчеству. Не так давно Горький отметил книжку иркутских пионеров, написанную самими ребятами и книжку трех воспитанников Томской трудовой коммуны.
Максим Горький всегда обращал особое внимание на литературу, возникшую в национальных республиках, краях и областях СССР. В этом отношении Горький выделял сибирских писателей. Он регулярно читал и поддерживал журнал «Сибирские огни». В заключительном слове на Первом всесоюзном съезде советских писателей Горький говорил: «Надо обратить внимание на литературу областей, особенно Восточной и Западной Сибири».
После Первого съезда советских писателей Алексей Максимович собрал писателей, живущих в Сибири у себя, дал оценку их творчеству, выделил роман товарища Ошарова «Большой аргиш» за литературный талант автора и глубокое знание жизни изображаемого им народа. Нечего говорить, какое огромное значение имели для всех нас указания, письма и дружеское отношение нашего любимого учителя – Максима Горького.
Смерть его бесконечно тяжела для нас. Не верится, что никогда больше мы не увидим его, не услышим его навсегда запоминающейся речи.
Но нет, он не умер! Он такой же вечно живой, как Пушкин, как Ленин.
Скорбная весть о его кончине коснулась меня на площадке астрономов под Омском. Казалось, вместе с холодной тенью луны, на солнце надвинулась другая тень, тень скорби. Но только во время затмения бывает видна солнечная корона, ни с чем несравнимая по красоте, «венец славы», как говорили в старину. Венец всенародной славы окружает живого Горького. И это есть не лживое поповское бессмертие, а подлинное, человеческое бессмертие.
Пусть же вместе с его бессмертными произведениями, вечно живет в советской литературе незабываемый образ Максима Горького.
Сибирские огни, 1936, №4, С.111-112.
ПОЭТЫ И КРИТИКИ
Доклад на вечере «Сибирской поэзии» в Новосибирске 20.IV.1927г.
Стихи и стихии
В первом номере «Сибирских Огней» В.Шанявец писал:
«Суровая страна Сибирь. Не любит искусства.»
В Сибири вообще трудно отыскать нужную книгу, а со стихами пуще того. Издать такую книгу здесь почти невозможно.
Да это как-то и звучит странно. Сибирь и стихи.
Читаю и вижу: Сибирь не любит поэзии.
И поэты Сибири, как истые сыны суровой родины, не любят ее».
Прошло пять лет (только пять лет!) и теперь никто не скажет, что «это звучит странно: Сибирь и стихи».Напротив, столичные критики поругиваются, что сибирские поэты не в меру любят Сибирь; но критики вынуждены примириться. «Мы с удовлетворением отмечаем ту большую и интересную вокальную выдержанность «Сибирских Огней», о которой раньше отрицательно отзывались* («Звезда», № 5, 1926 г.).
Конечно, формула В.Шанявца не была верна и пять лет назад.
Георгий Маслов, блестящий молодой поэт (умер в 1920 г. в Красноярске от тифа), убежавший из Петрограда от голода и большевиков и попавший в колчаковскую армию, декламировал в омских поэтических кабачках:
«Пора стряхнуть с души усталой
Тоски и страха тяжкий груз,
Когда страна изгнанья стала
Приютом благородных Муз.
Здесь вечно полон скифский кубок,
Поэтов, словно певчих птиц,
А сколько шелестящих юбок,
Изящных талий, тонких лиц!
От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот,
Свой мозг оставит мостовым»
-----------------------------------------------
*) Курсив везде мой (В. И.).
Это раздваивающееся стихотворение прекрасно отражает и радость, что вот, мол, хоть поневоле, а много прилетело в Сибирь европейских певчих птичек, и предчувствие неизбежного конца.
«Силы в бурях мы растратили,
Но настала тишина
И теперь мы лишь мечтатели
За бокалами вина».
В этом все, в сущности, содержание поэзии периода колчаковщины. Но даже в то время по вольным тайгам Сибири пелись совсем другие песни. Поэт минусинских партизан, Рогозин, где-то неведомо противопоставлял изящным масловским виршам, ощущению своей гибели, — счастье борющегося, бессмертного, коллектива.
«Услыша вольный голос рога,
Мужик тотчас бросает плуг
И собирается в дорогу:
--В тайгу! бить трона верных слуг!
Мать починяет однорядку,
Жена тащит пятизарядку,
Сын—кабаргиную доху,
А сам наспех седло латает,
На ноги бродни обувает.
Часы невидимо бегут.
Мятежник, наскоро прощаясь
Со всеми, высказал жене:
Не плачь, Федора, обо мне!
Коль не убьют, так жив останусь,
Убьют — вон Тишка подрастет.
И в горы конь его несет».
К сожалению, Рогозин как-то не сумел, впоследствии, овладеть городской «журнальной» техникой стиха и до сих пор не выдвинулся.
В Азии пишется, пропорционально, больше русских стихов, чем в Европе. Громадные стихотворные папки наших газет и в особенности «Сибирских Огней», замечательное обилие и мастерство частушек говорят о почти поголовной стихотворной «грамотности». Вероятно, это -- влияние коренных национальностей, путешественников и фантазеров, поющих, импровизирующих во все дни своей жизни. Да и сама природа Сибири, для выходца из русской скучной равнины, где «ни замков, ни морей, ни гор», глубоко поражает переселенца, обосновавшегося вдоль южных великих кряжей и по течению великих рек. Более мощная, более суровая, а иногда неожиданно более теплая и красочная, Сибирь заставляет говорить о себе, любить и ненавидеть, бороться и творить.
Стихи неведомых поэтов приходят с голубых Алтаев и полярных тундр.
Слесарь села Мало-Бащалак, Бийского округа, просит редакцию указать: «Какие излагать мотивы, какие рифмы и самые лучшие темы. какие недостатки и как нужно разрабатывать вопросы по поэтизму».
Рыбак и охотник Н.Н.Грудницкий, житель полярной Дудинки, с очевидностью доказывает, что поэтическое творчество если и замерзает кое от чего, но только не от мороза. «Бывало, прежде чем напишешь слова два-три, чернила на холоде заледенеют на пере. Потаешь их над жировиком и снова пишешь. И это после дневного физического труда. Так же и сейчас. Хотя и в тепле и со светом лампы, но после труда все же — все спят, а я -- за стол и пишешь или читаешь, улавливаешь, как нужно писать».
«Я безумно люблю писать стихи», -- пишет из шахтерского Черемхова т. И.Трухин, —«но плохо знаком с техникой построения ямб, хорей и т. д.».
«Я не сверну с дороги этой,
Ну, что-ж, что горы впереди,
П у щ а й и тучи – мне поэту
Дорогой этою идти»
Вот из какой среды, преимущественно, растет молодая поэзия «Сибирских Огней». Это хорошая среда. Сибирские поэты не отрываются от своей земли, не приезжают клянчить авансы и мешать редакциям, не ночуют в уборных по Тверскому бульвару № 25. Они хорошо работают и учатся.
В «Сибирских Огнях» появилось, за истекшие 5 лет, 48 поэтов:
Г.Акимов, Д.Алтаузен, Н.Асеев, К.Беседин, Б.Благодатный, Берников, Г.Вяткин, Виноградов, Гран, Долматов, Дружинин, П.Дрягин, П.Драверт, А.Езерский, И.Ерошин, В.Заводчиков, Н.Изонги, В.Итин, Колесников, Л.Крымская, А.Караваева, А.Козлов, П.Казанский, Е.Левит, Л.Лесная, К.Львова, Е.Минин, И.Молчанов, С.Марков (Вологодский), И.Мухачев, Л.Мартынов, А.Несмелов, В.Непомнящих, А.Оленич-Гнененко, П.Орешин, Г.Павлов, А.Пиотровский, К.Соколов, М.Скуратов, М.Терентьева, Н.Титов, П.Устюгов, К.Урманов, И.Уткин, Р.Фраерман, Черноморцев, В.Шанявец.
Здесь мелькают случайные имена знатных «иностранцев» (Асеев, Орешин), почти все сибирские поэты старшего поколения, но большинство родились и выросли в «Сибирских Огнях», в «Сибири» и «Советской Сибири».
Вот Геннадий Акимов, но — не так давно просил милостыню по деревням, и мать кричала ему вслед: «Без куска не возвращайся!». Вот Титов, Виноградов — приславший с первого раза мастерское стихотворение из команды одногодников 103-го Сибирского полка, Непомнящих, Марков, превращающийся уже в мастера: все — подающая надежды, наша молодежь.
Я хотел бы подробнее написать о них, но я не могу писать трактат о сорока поэтах, хотя они этого заслуживают, и еще надеюсь, что в следующее пятилетие у нас появится, наконец, настоящий критик или критики, способные руководить и выдвигать. В особенности неприлично, конечно, юбилейное молчание о таких поэтах, как Георгий Вяткин (его «Сказ о Ермаковом Походе», напечатанный здесь, говорит сам за себя), Нина Изонги, Александр Оленич-Гнененко, Георгий Павлов, А.Пиотровский. Очень интересны также — покойный Дрягин, В.Заводчиков, Арсений Несмелов и Мухачев (о них я писал в своих рецензиях: (см. «Сиб. Огни» №4, 1924 и № 6, 1926 г.). Но я очень надеюсь, товарищи поймут, что мне жаль отвлекаться от своих замыслов. Надо не упоминать, ради случая, надо писать серьезно. Поэтому, я остановлюсь только на одном из старших сибирских поэтов — П.Драверте, на одном из пришельцев -- И. Ерошине, и на трех молодых: Михаиле Скуратове, Иосифе Уткине и Леониде Мартынове. Надо отдать предпочтение молодежи.
И еще я надеюсь, что говоря о немногих, я дерусь за всех.
Краеведческая любовь
Химическая колба, где на примусе — кипятится чай. Огнеупорный фарфор, вместо стаканов. Кровать-кушетка. Походный топорик с резьбой на железе. Чугунный крест —летящая гагара — священного бубна шамана. Кристаллы. Стеклянная трубка с порошком вивианита, синим как Байкал. Картины природы Западной, Восточной Сибири, Забайкалья, Камчатки. Мохнатый мамонт с изогнутыми вниз клыками. Снимки легендарных экспедиций. Стихи! Петр Людовигович Драверт не только поэт. Он прежде всего ученый, профессор минералогии, исследователь Сибири. И поэтому, быть может, он — поэт. Есть увлекательная поэзия знания, мыслей, приходящих в рабочих лабораториях экспедиций, где знакомые грезы так парадоксально противоречат веками неизменным пустыням.
«Костями мамонта, песком и валунами
Покрыты мертвые, немые берега».
Там неверные тропы ведут в бадараны1, в болота, грозящие «чернотой зыбуна», озаряемые луной, подобной бубну шамана. В глубине, в саркофагах вечной мерзлоты, нетленные, как мумии фараонов, лежат трупы погибших в ссылке революционеров. В небе ходит волшебник Чолбон и родные дети Сибири ведут ночные хороводы.
«Мокры эттербезы от капель росы.
Но все еще в пляске идут тунгусы
Навстречу зари красноокой.
И предки их вместе с живыми поют,
Найдя в заколдованном круге приют:
— Эхекай — охокай!».
В этом близком и неизведанном мире П.Драверт ощущает себя своим. Есть город, лаборатории, лекции, «круг стареющих друзей», но хорошо, когда удается бросить «злого города коробки», уйти к природе.
«В горах окрестных плавики
Прекрасны, зелены и чисты.
Из темных нор своих сурки
Выбрасывают аметисты.
Порою в щебне и пыли,
Освободясь от жил природных,
Горят над солнцем хрустали
Светлей воды ключей холодных.
А дальше степь, где тонет взор,
Не находя границ приволью,
И блюда плоские озер
Полны слепяще-белой солью.».
Стихи Драверта—это сибирский, чаще северный, пейзаж, зарисованный точной рукой исследователя. Многие стихотворения из его книги избранных стихов «Сибирь» походят на дневник путешественника: «Плавучий Остров», «В Олекминских пещерах», «В горах Харалуха», «Около Вилюйска» и др. Но лейтмотив поэзии Драверта — любовь.
Любовь, как известно, вообще первая сила, способная омолодить и вытолкнуть за двери алхимической башни стареющего Фауста.
«Старые толстые книги,
Хочется вам изменить,—
Новые светлые миги
Вытянуть в звонкую нить.
Мне ли корпеть в кабинете,
Сердце от милой тая?—
Годы бежали, как дети,
Буду ребенком и я!
В пику педантам упорным,
Скучным, как длинный бином,
Юношей буду задорным,
Пьяный весенним вином.
Что пересуды и толки,
Праздный заглазный смешок,
Если меня комсомолки
Примут в свой красный кружок!».
Любовь Драверта недолго остается в комсомольском кружке. Она, выйдя за двери, уходит за тысячи миль.
«Пусть едкой, горькой грусти рана
В моей душе не заросла,
Но вижу я — в порту Аяна
Сигнал крылатого весла,
И небо бледно-голубое
С покровом облачной тоски;
И овлажненные в прибое
Золотоносные пески.
В твоих речах я слышу снова
Гортанный говор тунгусов,
И бег ручья с холма крутого,
И шум пригнувшихся лесов.
В наплыве нежного тумана
Беру я кисть твоей руки,—
И снова в сопках Марекана
Алеют лилий завитки!».
Там, где ртуть падает до — 50, это, конечно, не комнатные похождения.
«От моей юрты до твоей юрты
Горностая следы на снегу.
Ты, пожалуй, придешь под крылом темноты,
Но уйду я с собакой в тайгу.
От юрты твоей до юрты моей
Голубой разостлался дымок.
Тень собаки черна, а на сердце черней
И на двери железный замок».
Тоска любви потому, что память хранит то, чего не было, но что осталось в
крови, как «зов предков»:
«Костер у преддверья пещеры—защита от диких зверей,
И отблеск его на плитах доломита.
И дым, заблудившийся в кольцах твоих рыжеватых кудрей,
И смуглые руки, и белые зубы твои, Адаита.
Ты днем от меня убегала и пряталась в чаще лесной,
А ночью, укрывшись под каменным сводом,
Бессонно делила мохнатое теплое ложе со мной,
И пахло тогда от тебя земляникой, полынью и медом.
И были на коже моей от ногтей твоих острых следы,
И губы порою искусаны были,
И. бурая кровь запекалась в волнистых струях бороды.
Ужель ты забыла, как мы беспощадно и жадно любили?».
А теперь, мы — «жених и невеста», «мы оградились глухими стенами», потеряли «зеленое уветье».
«Не шкурой бизона теперь ты одета,
А тонкою тканью из шелка;
И нет уж на шее твоей амулета
Из зуба трехлетнего волка».
Впрочем, когда читаешь Драверта, несмотря на упорное повторение, любовного стихотворного стержня почти не замечаешь. Любовь к женщине сливается у поэта с любовью к Сибири.
«Слились в моем воображеньи
И ты, и край тебе родной».
Часто, женщина — лишь поэтический прием для иной, краеведческой любви. В стихотворении «Ягоды Тундры», любовь поэта отдана простой морошке, более прекрасной, чем «бананы Цейлона, ананасы долин Сингапура!», «мальтийские апельсины» и виноград Дона.
«Только здесь на просторах Сибири,
Наклонившейся к тундрам великим,
Зреют лучшие ягоды в мире,
Ароматом проникнуты диким».
И женщина появляется только затем, чтобы увенчать победу сибирской морошки.
«Знаю, утром в остывшем стакане
Побродив деревянною ложкой,
Ты пошлешь меня в зыбком тумане,
За оранжево-желтой морошкой».
П.Драверт, как поэт, как мастер своего дела, не принадлежит ни к одной из современных групп. Он даже несколько свысока относится к, разной там, «стихотехнике». «Примат содержания над формой» признан им задолго до ВАПП'а и, разумеется, не по его рецептам. Читая Драверта-поэта, редко забываешь Драверта-профессора, которому, прежде всего — некогда, которому порой позволительно, по ученой рассеянности, забыть собственные свои достижения. Стих его, звучный и точный, как во всех приведенных здесь отрывках, иногда бледнеет и горкнет, как душистая травяная настойка, оставленная в мензурке. Такова «Полынь», напечатанная в этом номере журнала. Но в Драверте, больше его самого, любишь Сибирь, эту не открытую еще страну, лежащую у наших ног. Поэзия Драверта — большой этап в сибирской поэзии. След, оставленный им, глубок и неизгладим.
Уста избы
«Ты весь тайга, я весь пришелец», писал я Ивану Ерошину, когда узнал его. Но Ерошин пришел в Сибирь еще позднее. Путь Ерошина необычен, идет по кривой, дыбом, головой вниз.
О том, откуда Ерошин, мы узнаем из его лирики.
«Ватага, помнишь ли оборвыша Ванюху,
В худых лаптях, в шубенке в сто заплат,
Что братски с вами ел корявую краюху,
Подсказывал урок и поправлял диктант?
Зачинщики забав, веселые, лихие,
Озорники на птиц, я нежно помню вас.
Звенят ли вам, порой, дни резвости живые
В досуге от работ, в вечерний тихий час?
Не снятся ли когда гора, снежки и санки,
Гудящий лед пруда, вишневость ваших щек,
Ночное за селом, сердечный вскрик тальянки.
И перстень. в мгле костер. и верный друг Жучек?».
Иван Ерошин — рязанский крестьянин, земляк Сергея Есенина; но современная поэзия это — городская, очень искусная вещь. Ерошин впервые познакомился с мастерством в столичных странноприимных кружках, в студиях Пролеткульта. Ерошин растаял первой и неожиданной любовью к городу, к революции, потому что, ведь, никогда бы иначе он, крестьянский парень, не пришел бы к этому далекому городскому чуду — скоропечатным машинам. В ясном поле он затосковал о дымном городе.
«Поля, поля и лес, но чувства не с деревней,
Ни звука, тишина, кругом царит покой,
Шелка пахучих трав и музы стих напевный,
Я ваш недолгий гость, я вновь томим тоской.
Что нужно мне, певцу? Фабричные сирены
Не потревожат мой под утро сладкий сон.
О, город! Компас бурь, твоей борьбы арена
Зовет меня к себе, тобою я пленен.
Деревня не моя, мне близки тротуары,
Где кровь лилась труда, гремел орудий гром,
Симфонии борьбы, Октябрьские пожары.
Они зовут меня, горят в душе огнем.
И ты, властитель мой, борьбой веков прощенный,
Ты в битвах весь горишь, как в юном теле страсть.
Опять стремлюсь к тебе, стремлюсь сильней влюбленный
В твою разгневанную пасть».
Но в человеке сильно нутряное, волчье, то, что тянет к себе, вспять, в лес. Ерошин бросил столицы.
«По иной пойду я по дороге,
По другому страдному пути».
Так начинается его первая и единственная книга стихов «Переклик» (Сибгосиздат, Новониколаевск, 1922 г.). Ерошин ощутил к городу большую и неблагодарную ненависть. Гнилью и смертью показалась ему прежняя «Петербургская комната».
«Испуг и оторопь, не вылетев, застыли,
Портьеры мягкие изводит едко пыль.
За полотном картин химеры опочили,
Гнилой эротикой жеманный бредит стиль.
В углах попрятались изысканные сплетни.
Задумчив шкаф с недоуменьем книг,
С вчерашнего кивает сон столетний
И бедный дух, как жалкий вор, притих.
Со злобой зеркало мигает мутным глазом,
А столик лаковый — как засушеный гриб.
Замучили цветы, готическая ваза,—
Косятчатый паркет по-старчески охрип.
Как чуждо все, как все со мною в ссоре —
И это зеркало, и кресло, и кровать.
Приду и ухожу без разговора:
Здесь можно только умирать».
Еще недавно, в деревне, он пел (Ерошин на самом деле поет, у него все поет: поля, избы, озера, рощи, луга, закаты, снега) о городе, в городе он признался:
«Для сердца чуткого милей
Проселков грязные дороги,
Чем бритые ряды аллей,
Дома архитектуры строгой.
Есть вечность у простой избы
С ее приветливою печью,
Там знаки тайные судьбы
Сплелись с живой мужицкой речью».
Эти последние два стихотворения напечатаны в «Сибирских Огнях». Сибирь привлекла Ерошина тем, что во всей крестьянской Руси самая крестьянская — это Сибирь. А в Сибири — Алтай. Ерошин жил там годами, выбирая глухие, кержачьи, непроезжие долы, где нет не только городов, нет ни одной машины. Он, помню, хмуро отнесся к нашему первому полету в долину Катуни, не на «крыльях серафима» и шаманском бубне, а на юнкерсе «Сибревком». Ерошину казалось чем-то в роде святотатства, что туда, где еще нет мельницы, врывается такая хитрая заводская штука — аэроплан. Ерошин заявил, что он на аэроплане не полетит. Нет, он пойдет пешком, проселком.
«Опять зовут стада деревни,
Под вдовьим трауром поля.
И тайной властной, тайной древней
Неизреченная земля.
Лицо туманами умою,
Землей и травами утрусь,
Пойду проселочной тропою
Читать зарю и слушать Русь,
Грачей на ветлах в повечерье,
Зазывы девушек, гармонь,
Приметы, говор и поверья,
И ярый песенный огонь!
Мой звездный кров необозримый,
Соломенный забытый дом,
Дай песням крылья серафима,
Устам избы — словесный гром».
Единственно, что принял Ерошин из всего городского, прошлого, это
(если не считать библиотек). египетские сфинксы на набережной Невы. Это
тот же —
«Мир таинственный, мир мой древний»,
(Есенин)
над которым пронеслись невредимо
«сорок стай годов».
Миросозерцание Ерошина, в сущности, становится религиозным. Он знал. на что обрекает его вывернутая смена вех, он бросал вызов.
«Знаю я, что буду я осмеян,
Вслед мне бросят недруги плевки.
В хороводе грез, моих царевен,
Вижу радость, — крылья их легки.
……………………………………….
Пой, душа, свершая путь свой крестный,
Пой, настал твоих литургий час».
Ерошин вносил в «Сибирские Огни» много противоречившего задачам журнала. За это подверглись нападкам, скорее, «Сибирские Огни», чем Ерошин. Над Ерошиным не смеялись. В нем видели настоящего большого поэта. У него можно поучиться вкусу и весу слова. Стих у него, как яблоко Алма-Аты.
«Румяное—кусаю жадно
Полбока сразу — полный рот.
И духу и глазам отрадно —
Так солнечен, так сочен плод.
Росой на щеки струйки сока,
Приятен грубый, ровный хруп».
Поэтому, я убежден, что, печатая стихи Ивана Ерошина, порой не «созвучные» времени, мы не ошибались. Туманная его лирика, конечно, никого ни в чем не убедила. Она воспринималась, как музыка. Можно слушать орган и замышлять рабочее восстание. Но сам Ерошин, видя товарищескую руку, где подсознательно он ждал «Голгофы», задумался и очень крепко. Из стихов его исчезла прежняя бездумная легкость:
«О, если б знали вы, чем я живу и мучусь,
Вздохнули б над судьбой моей!».
Сейчас Ерошин давно не печатается. Это хороший признак. Он работает в окружной газете, ведет литстраницу, помогает молодежи. Он пишет, что прежнее творчество его не удовлетворяет.
Однажды Ерошин пошел на аэродром и сел в кабину юнкерса. Ерошин увидел растущий горизонт нашей плоской крестьянской страны.
Он пытается перейти на прозу, на эпос. Он читает серьезные научные труды. Все это — много значит. Я думаю, он поймет, что, на самом деле, комнатные цветы -- воняют, как пудра, а от мазута веет бодрый запах.
От Ерошина можно — ждать.
Скромный разбойник
У него тихий голос и совсем приличный для нынешнего поэта европейский костюм; но подпись у него разбойничья: «Михайло Скуратов».
Как и следовало ждать, синтез Сибири и революции, новая сибирская поэзия, оформилась прежде всего в творчестве коренной сибирской молодежи, уроженцев старых сибирских городов: Иркутска и Омска (Томск целиком ушел в учебу и в обиду, что на исторической арене его обставляет мальчишка, выскочка — Новосибирск).
Михаил Скуратов — иркутянин. Родился в начале 900-х годов, в селе Уяне, б. Иркутской губернии. Родители его -- потомки завоевателей Сибири, переписанных из казаков в «крестьянское сословие».
«Я из рода сибирских старожилов» -- рассказывает о себе М. Скуратов. «Отец мой рано выучился грамоте; в городе стал жить с молодых лет, где вел жизнь городского пролетария, будучи то кочегаром, то конторщиком, то военным писарем. Мать моя —женщина безграмотная, но не мало хранит житейского опыта и сказаний о стародавних временах. Жил я, по большей части, в городах. Учиться начал в гор. Иркутске. Помню, что по словесным наукам и по дурному поведению шел всегда впереди всех; не раз дело доходило до того, что меня решали за поведение исключить. Как сын бедняка, я не мог попасть ни в гимназию, ни в реальное училище. По-дешевке, на медные гроши, я благополучно кончил высшее начальное училище (4 класса гимназии) в самую революцию 1917 года. Отец было хотел меня определить в телеграфисты (это был его идеал), но я поступил в Иркутское Горное училище; пробыв в нем 2 года, побывал на шахтах и золотых приисках и не кончив училища по независящим от меня обстоятельствам, стал с 1920 г. добывать себе кусок хлеба. Был я простым чернорабочим, сплавщиком дров, запальщиком в шахтах, конторщиком, был жнецом, батраком и пр. По вечерам посещал вечерние курсы и рабфак. В 1922 г. поступил в Иркутский Университет, выдержав экзамен, экстерном, на Восточное отделение Внешних сношений».
Пред нами типичный путь талантливого пролетария: труд пополам с ученьем, рабфак, комсомол. В Иркутске в то время на литературном фронте было оживленно. Старый город пытался соперничать с непрошенной столицей. Издавался толстый художественно-литературный журнал «Красные Зори», просуществовавший около года. Издавался журнал «Кузнецы Будущего».
Там, тренируясь в «Иркутском литературно-художественном обществе» («Илхо»), в газетах «Красный Стрелок» и «Власть Труда», Михаил Скуратов начал печатать стихи. В 1924 году (не сразу) появился в «Сибирских Огнях». В этом же году Скуратов перебрался в Москву, в «Высший литературно-художественный институт имени В.Брюсова»; но, к нашему удивлению, «Сибирских Огней» не бросил, хотя стихи, его охотно печатают в Москве и Ленинграде («Красная Новь», «Новый Мир», «Прожектор», «Красная Нива», «Звезда», альманахи «Перевал» и др.). Несмотря на обилие больших салонов, где его любезно принимают богатые хозяева, Скуратов жалуется на бесприютность.
«Нет ни кровли у меня, ни угла с постелью,
Под заборами брожу -- рад не рад безделью».
Но это -- область стихийных бедствий: у нас находятся особняки на «Чистых Прудах», для никчемных учреждений (недавно много сотен выставили с милицией) с такими же чиновниками (у них, конечно, -- квартиры), и нет комнаты для лучших из расцветающей нашей, творческой, молодежи.
Михаил Скуратов внес в сибирскую поэзию свои, чисто сибирские, темы. О нем и о П.Драверте можно сказать, что они не только сибирские поэты, но и поэты Сибири. «Байкальская бась», «Старый бродяга», «Первый ссыльный», «Московский тракт», «Таежные думы», «Ангара», «Сибиряки», «Якутская Повесть» и т.д. -- заглавия стихотворений М. Скуратова. Сибирская старь Скуратова выкопана не в архивах. Она от ленских приисковых преданий, от бабушки Скуратова -- большой сказочницы, от предков.
«Деды, прадеды мои и бабки
С испокон веков сюда пришли.
Сотню лет, без малого, без драки
Не могли сыскать себе земли.
……………………………………….
Были предки -- русые вояки,
Не из пришлых позже каторжан.
Ах, не даром колесили в слякоть
Собирать ясырь по рубежам!».
Истый сибиряк, Скуратов — за романтику стихийных завоеваний, за разбойничью хватку, за поэзию борьбы в пустынях, в краях золотоносных и смертельных. Но после драк, завоеватели берутся за плуги, косятся на посельгу и думают о крепкой защите забранного.
«Лишь теперь сыны варнацких витязей
Не идут в набег и грабежи,
Раз давно почетные их тысячи
Записались в племя старожил».
Обжитая земля множит иных людей. Вырастают города. В городах рождается пролетариат. И потомок шкуродеров надевает, вместо кольчуги, значок КИМ'а. В «Якутской Повести», в ряде других стихотворений, Михаил Скуратов, естественно, становится на сторону обиженных.
«Ай, и хитрый народ торгаши,
Ай, и жадные стали, как волки!
Едут в гости, а рвут барыши, —
В гости едут с бочонками водки.
И зачнут величать всех: дружок да дружок,
По обычаю шлют подарки, —
Русской водки дают глоток,
А кому и по целой чарке.
Ай, как много у нуча товаров,
Много ситца и много добра.
Можно всем получать задаром, —
За отдарки всем можно брать!
Только чем отдавать им отдарки?
Нет пушнины и рыбы нет.
«Подождем, коли-так!» -- крикнут с барки,
Утешая, купцы в ответ,
И зимой наезжают в гости —
За отдарками целой гурьбой,
Забирают моржовые кости,
Всю пушнину и рыбу с собой!
И вздохнул баранчак мой:
«Не ладно, неловко,
Ох, какой был собака купец!
И пошто это русская водка
За глоток стоит целый песец?
Эх, не ладно, а бают, что шибко
Прищемили купцов у вас;
И п о ш т о, п о к а к о й о ш и б к е
Н е б ы л в т у н д р е т а к о й п р и к а з?».
Революция и гражданская война в Сибири отражены М. Скуратовым, но «песни о недавнем» звучат у него так же, как песни о стародавнем.
«Не за той ли, не за песней звонкой
Чутким ухом клонится земля?.
О тайга, тайга моя, -- сторонка, --
Сторона, таежная моя!
В сизый вечер, как и встарь, зардейся,
Как и в те диковинные дни,
В те, когда нашли красногвардейцы
Смерть в глуби байкальской западни.
Ты следил за буйной сечей зорко, --
Чуял тяжкий динамитный гул.
Целый год ходила поговорка:
«Большевик в Байкале потонул!».
В глуби вод, прославленной повсюду,
Опочила горсточка гостей.
Им гремели бури -- не забуду, --
Колыхая водную постель.
Так реви, рычи, звени и смейся --
Мой гремучий ласковый Байкал,
И, баюкая, -- красногвардейцам
Песню пой, что древле напевал.
Не затем ли с милою по скалам
Я бродил не весел и не пьян,
Напевая были над Байкалом,
Что певали стаи каторжан!».
Здесь, впрочем, ощущается уже, что Скуратов оступился. Для «Песен о недавнем» надо было найти другую музыку. Хуже всего, что Скуратову стали подражать. Скуратов не повинен; но, действительно, одно время стал культивироваться неприятный сибирский стиль «ой, ты гой еси!». Конечно, «разговорчики в кулуарах» о том, что вот, -- сибирские поэты ударились в романтику, что забывают, мол, современность -- «разговорчики» и есть. Два, три десятка стихотворений не создают еще «романтической эпохи». Было естественно, даже для комсомольца, кинуться на целину неисчерпанных сибирских тем. Сибирь была «страной изгнанья». Декабрист А.И.Одоевский и др., в Сибири, «на чужбине» могли только вспоминать.
«Как неподвижны волны гор,
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемою гранью!
За ними -- полный жизни мир,
А здесь -- я одинок и сир
Отдал всю жизнь воспоминанью».
Одоевский. «Послание к отцу». Ишим. 1836 г.
Теперь Сибирь — «приют благородных муз». Взлет творчества после победы революции, когда Сибирь очнулась от политики каторги и колонии, был не чужд местного патриотизма и бахвальства.
«Чем родней, таежней и суровей,
Тем мороз прославленней и злей,
Но такой густой звериной крови
Не бродило в жилах на земле.
Не у нас ли реки моря глубже
И длинней, чем долгие края,
И зачатьем будущего тужит
Моховая матушка-земля?
Пусть еще народ мой полудикий
Не продрал ребячьих синих глаз, --
Вся земля соседей разноликих
На ладонь уместится у нас!».
На некоторое время, я думаю, это хорошо. Сибирской поэзии приходится пройти пройденные этапы, но темпом, ускоренным в сотню раз. Что касается Скуратова, то он сам поставил большую точку на прошлом, сознав свое однообразие.
Скуратов стал писать о современности. Это не значит, что он внял голосу имеющих привычку высказывать свое авторитетное мнение. Вероятно, теперь ему достанется еще больше: «Ах»,—скажет критика,—«вы компрометируете нас перед заграничными леди». Скуратова потянуло к «большим полотнам». Он не без успеха попробовал силы в прозе. Его рассказ «Котел» напечатан в «Сибирских Огнях». Теперь Скуратов выступает с поэмой «Город на перепутьи»*).
Родной город, «Захолустное домоседство», не раз привлекал М. Скуратова.
«За ставней тощей и поджарой
Гуляет ночь под ручку с пьяными.
То в щель заглянет ведьмой старой,
То тихо крадется туманами.
Там, — за окном, в потемках бродят
Немые страхи с душегубами.
Уроды снятся на уроде,—
Косматыми и толстогубыми.
Кто навевает жуть над всеми?.
Прохвост ли ветер с непогодою,
Иль черноглазой ночи темень,
Иль сам я жуть рукою трогаю?
Сожмется сердце -- непоседа,
Когда завоет вдруг метелица
И стянет крышу у соседа,
Иль снежным саваном расстелется.
Не оберешься мук и плача.
В ту пору сам хочу -- поверите-ль?
Брехать и лаять по-собачьи,
Порхать по воздуху, как перепел.
Но что же люди, что им надо?
Они пыхтят за самоварами.
Усядусь с ними тихо рядом,
Займусь беседой с мамой старою».
Свой Иркутск М. Скуратов не раз поминал лихом. Прекрасно зарисованы иркутские Скуратовские бабы, решившие, что советские самолеты летят в Китай не иначе, как за чаем.
«Все чаи отберут, чаи байxовые».
«Город на перепутьи» — это эпическая сатира, общий контур советских уеэдных, окружных, губернских городов, ирония над лешачим их бытом, но и жуть перед страшной его устойчивостью. Исчерпав своих ямщиков, бродяг, каторжан, разбойников, Скуратов довольно отчетливо идет к новым темам. Сибирь начинает восприниматься, не как возлюбленная, а как материал для более четких замыслов. Вообще Скуратов еще нуждается в более определенном миросозерцании.
------------------------------------------------
*) Поэма будет напечатана в №3 «Сибирских Огней».
Стих Скуратова порой своеобразен и технически высок (см., напр., «Краснобай»,—«Вьюжные Дни»,—сборник сибирских поэтов революции (Сибкрайиздат, 1925 г.).
Михаил Скуратов один из претендентов на первое место в молодой сибирской поэзии.
Охромевший партизан
Вместе с Михаилом Скуратовым начал свой путь в «Сибирских Огнях» другой иркутянин—Иосиф Уткин. Путь его не столько интересен, сколько поучителен…
…Первое стихотворение Уткина, напечатанное в «Сибирских Огнях», — «Партизан». В редакции был спор: печатать -- не печатать? Действительно, «Партизан» больше походит на оперного статиста. «От пашни не больше году», а рисуется каким-то сверх-кавалеристом, разучившимся ходит пешком.
«Вкось до штаба не больше квартала,
А он двадцать минут пробрел».
Партизан готов, «за свободу», «лететь против скал», «отморозил щеки», но даже не чешется, и тому подобная бутафория. Мне пришлось отстаивать «Партизана», как произведение начинающего. Ритмика была не плоха. Стихи приняли. Здесь и надо было поставить точку; но когда посредственную вещь вдруг принимаются истерически расхваливать, она становится несносной. Случилось это так.
Иосиф Уткин очень скоро, вместо сибиряков, стал писать о более распространенной национальности. Затем он переехал в Москву и, как известно, вошел в московский обиход. А.В.Луначарский продиктовал однажды статейку об Уткине. Так началась уткинская слава. Его имя примелькалось. Оно на каждом заборе, по поводу каждого литературного выступления. Оно повторяется так часто, что за ним ничего не видишь, кроме наспех внушенных пустышек.
Московская «малая» критика, армия рецензентов, та, которая в сущности и делает «погоду», работала, как всегда, по готовому штампу. «Партизан» дважды (или сколько раз?) был провозглашен лучшим стихотворением сборника «Вьюжные Дни», куда вошли все лучшие революционные сибирские стихи того времени. В конце-концов с «Партизаном» вышла плохая история; он жестоко поплатился, как это всегда происходит со всяким непомерно заласканным существом.
В 1927 году в Госиздате вышла «Первая книга стихов Иосифа Уткина». Прежние сибирские стихи Уткина подверглись обработке. Ровные строфы «Партизана» разбиты по лефовским образцам. Я не против «Лефа». В Сибири я защищал его первый («Красноярский Рабочий», 1920 г.). Надо быть мастером, надо искать; но надо знать хорошо приемы, которые берешь. В.Маяковский очень ясно рассказал в «Новом Мире», почему он отвергает запятые и ломает строки. Это все -- «для голоса», для правильного чтения. Можно спорить. Можно следовать, если требует ритм, обогащая стихотворный лом внутренними аллитерациями и рифмами. Но когда строчки множатся ради строчек (и гонорара?), это отвратно.
В «Сибирских Огнях» и во «Вьюжных Днях» было —
«На стременах он тверже, пожалуй,
Ишь как криво над валенком пол.
До Саянов, как раз от Урала,
На кобыле хромой прошел».
Теперь:
«До Саянов
Как раз от Урала
На кобыле
Хромой прошел».
И сразу, вместо кобылы, охромел партизан. Бедный партизан! Печать того же неизбежного упадка лежит и на других «исправленных» стихах Иосифа Уткина. Хорошее, мудрое заглавие стихотворения «Такая жизнь» (Вьюжные Дни», стр. 33) меняется на «Стихи о партизане и его бабе». Крепкие строки:
«Сказал:
— Братище, получи!
И будет падями бродяжить.
Пора и на родной печи
У жениных погреться ляжек.
Куда бы зверь не забредал,
А все к норе обратно топать.
И мыло с конского бедра
Пятнает хоженые тропы».—
заменены слащавыми:
«И будет падями вертеться
Пора и на родной печи
Под бабьим к р ы л ы ш к о м погреться.
Расправил повод весело,
Махнул в упругие стремена.
И вот р о д и м о е село
Встает из с и н е г о тумана.».
«Зубатый волкодав» превратился в «зобатого», «эажженая солома» в «горючую» и т. д.
Бедный Уткин! Вас обкормили райской халвой похвал. От райской сдобы даже пахучая партизанская баба превратилась в ангелочка с крылышками. Вы, как ваши библейские предки, утратили познание добра и зла, блаженно не испытывая совести. Вы, выносившие крепкий ветер Байкала, простудились от московского сахарного мороженого. Может быть и хуже: недавно я писал о полярном исследователе, погибшем от комнатного сквозняка. Сядьте, как ваш раввин, подумайте и скажите:
— П Л О Х А !
Плохо поэту сидеть на одном месте. Бросьте вашу крылатую критическую бабу. Возьмите берданку. Вот вам наши мужские руки, если понадобится.
Иосиф Уткин талантливый, революционный поэт. Хороша его поэма «Якуты». Есть хорошая комсомольская лирика. Есть прекрасные строфы. За вычетом некоторых идеологических срывов, блещет остроумием «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» (по-русски надо сказать «Блохе»). Но я не могу хвалить Уткина, в его успехе есть элемент фокуса, трюка (две рецензии в одном номере, открытие, что это не Уткин подражает Маяковскому, а Маяковский Уткину и т. п.). Но в этом фокусе мне кажется очень серьезным, что «якуты», «партизаны», еврейская повесть, весь эпос написаны Уткиным давно, два-три года назад, а теперь он пишет о разнообразных девушках, в лучшем случае -- под аккорды штабной гитары. Мне кажется серьезным, что наши молодые поэты, не понимая этого девичьего успеха, срываются с места, везя в Москву несомненно более интересных чалдонов, алтайцев, киргизов и возвращаются злые, с твердым убеждением, что успех создается совсем с неподходящего конца. Очевидно, при этом, что однажды Уткина примутся разделывать, не менее энергично, чем сделали. Он станет отругиваться. Он начнет писать в «На посту». И, как большинство поэтов-коммунистов, из поэта превратится в плохонького критика.
Я надеюсь, что ничего этого не будет; но вот до чего зловредной может оказаться для поэтического партизана его ангелоподобная критическая баба!
Новый Джек
О Леониде Мартынове, в противоположность Уткину, ничего не написано, кроме трех-четырех ругательных заметок, но сибирские поэты, литераторы, все стоящие близко к сибирской литературе, единогласно признают его поэтическое первенство.
Мартынов, прежде всего, -- интересен. Это самый читаемый из сибирских поэтов. Редкую книгу стихов можно выпить залпом. Мартынова глотаешь, как устрицу. Правда, он не был устричным пиратом, но как Джек Лондон, родился на берегу Тихого океана и под той же почти широтой -- во Владивостоке. В молодую свою жизнь он хорошо поскитался и много видел. Ему есть о чем порассказать. Почти все его стихотворения — рассказы, маленькие мастерские новеллы. Их принято называть поэмами. В «Сибирских Огнях», в журнале «Сибирь», в сибирских газетах напечатано около десяти поэм Леонида Мартынова и много лирических стихотворений. Цифры эти получают вес, когда узнаешь, что автор потеет над уравнениями с двумя неизвестными, готовясь в какой-то ВУЗ. В центральных журналах Мартынов не печатался. Один раз, проездом, он зашел в «Красную Новь», но стихов его даже не прочитали.
— Что? Опять о Сибири? Нет, у нас уже печатался Джек Алтаузен.
«Нет, так нет». Чем хуже читатель «Омского Водника»? Но гонорар, конечно, пропал.
«Новый Джек» это, разумеется, не Джек Алтаузен. Но это не означает также, что я равняю Мартынова с Джеком Лондоном. Можно говорить о параллелях и о влияниях. Золотоискатели, купцы, дикари, нож и водка одинаково обильны у Джека из Оклэнда и Джека из Омска. Первые шаги Лондона, «Зов Предков», прекрасное проникновение в «разум тела», звучит и у Мартынова. Его фантастический «Голый Странник», победивший сибирскую стужу, кажется призраком праистории.
«И я бреду во тьме полярной,
По ветру в темноту кричу:
— Откликнись, странник легендарный,
Ты слышишь, я тебя ищу!
— Сюда, зимы противник ярый,
Зовет такой же, как и ты,
Вернемся к родине мы старой
В века тепла и красоты.
Но тусклы снеговые шири
Все крепче ледник голубой,
Все выше к берегам Сибири
Зимы отчаянный прибой»…
Любимая лирика Леонида Мартынова—о вооруженных мужчинах и о сильных девушках.
«Не упрекай сибиряка,
Что он угрюм и носит нож.».
----------------
«Мы гулять не ходили,
Мы не пили вина,
Нас с тобой подружили
Глубина и волна.
Там, где лихтер причален,
Вышла на берег ты,
А от женских купален
Это больше версты».
Зима для него, для сибиряка, ненавистна только тем, что приходится прятать тело. Прекрасная Плавунья оденет пимы, спрячется в комнаты.
«Разве девушка и пим
Совместимые понятья?».
-------------------------
«Ты заблудишься скоро
В царстве меха и стен».
------------------------------
«В безмолвии белом
Так тяжек гнет печей, овчин,
Болеют жены дряблым телом,
Мужчин одолевает сплин».
Почему же за все приходится платить «телу»?
«Вот, если разум делает дебош,
За что же,—объясните мне причину,—
Я не в сознанье получаю нож,
А между ребер, в сердце или в спину?».
Это шутя; но все же любовь, ощущение плоти, земляная жажда звучат у Мартынова Лондоновским эхом. Поэмы Мартынова, как сказано, о приключениях. У Мартынова даже древний алтайский бог Эрлик становится золотоискателем. «Пираты», «Золотая Лихорадка», «Повелительница барантачей», «Айналаин», «Бусы»—вот названия его стихотворных рассказов…
… Мартынов не остановился на Лондоновских темах. У Лондона обычно один человек сражается против целых племен и групп и побеждает. У него мир еще разделен на низшие и высшие расы. Белокурые звери всегда побеждают жалких дикарей. У Мартынова — хищнику противостоит неожиданно окрепший коллектив.
— «Так неужели всю большую лодку, —
Захохотали дикие мужи, —
Вы нагрузили бусами? Ты водку,
Ты порох, да железо покажи.
Меха тепло дают и водка тоже,
А что стекло? Оно подобье льдин.
Нет, на стекло песцов менять не гоже, —
Узнай о том, заморский господин!».
И несчастный купец, для которого провал спекуляции — гибель, вдруг понял, что
— «На земле не осталось
Ни одного дикаря».
В стихотворении «Железнодорожники», напечатанном в настоящем номере, — песнь о победе нового. Здесь «я» сливается с коллективом. Новое приходит с безымянными инженерами и рабочими, пришедшими в страну бородачей, в кержачьи крепости, за углем, белым и черным, за металлом гор, чтобы проложить в молодую глушь железные колеи. Смешно сопротивление стариков. Скоро переведутся монашки.
«А подростки телом крепки,
Пьяны бешенством мирским,
Бреют лица, носят кепки,
Чтоб служить по мастерским».
Отсюда же многочисленные газетные агитационные стихи Л.Мартынова («Октябрь», «Зарницы» и др.) и всем известная поэма «Адмиральский Час». Я не знаю других строк, так блестяще отразивших Куломзинское рабочее восстание, как в «Адмиральском Часе».
«Но алый пламень не погас, —
Он в хижинах мерцал нередко.
Угрюмых слов и дерзких глаз
Не уследила контрразведка.
И ночь была, и был мороз,
Снега мерцали голубые,
Внезапно крикнул паровоз,
Ему ответили другие.
На паровозные гудки
Откликнулся гудком тревожным
Завод на берегу реки
В поселке железнодорожном.
Центральный загудел острог.
Был телефонов звон неистов.
— Приказ: в наикратчайший срок
Прикончить пленных коммунистов! —
И быстро стих неравный бой.
Погибла горсть нетерпеливых.
И егеря трубят отбой.
У победителей кичливых,
Банкеты, речи и вино.
И дам до ужасов охочих
Везет гусар в Куломзино
Смотреть расстрелянных рабочих.
И, может быть, еще ценнее любви — ненависть. Строя, надо крепко знать, что ломаешь. Мартынов дал прекрасную поэтическую отповедь всей той сусально-лазурной струе, какую венчает в нашей поэзии Иван Ерошин.
«Наш путь в тайгу. И этот дальний путь
Не верстами—столетьями я мерю.
Вооруженный чувствую я жуть
И чувствую громадную потерю.
Уже исчезли за горбом земли
Завоеванья поколений многих.
Нет городов. Лишь изредка шпили
Да крестики часовенок убогих.
Громадная и дикая страна,
Где спящий бредит ведьмою и волком.
Вчера нам показали колдуна,
Который глазить ходит по поселкам.
А девушка, стройна и весела,
Шепнула нам, пока мы воду пили,
Что люди из соседнего села
Возжами конокрада удавили.
По избам крик младенцев и овец
От смрада в избах прокисает пища.
Будь проклят тот сентиментальный лжец
Что воспевал крестьянское жилище!
Я думаю о нем, как о враге,
Я изорвал бы в клочья эту книгу.
Я -- Человек.
И никакой тайге
Вовек не сделать из меня шишигу!
Слог Мартынова, его формальное мастерство, иногда поднимается очень высоко («Море было», в особенности «Оттепель»); но чаще стих его недостаточно отточен. Мартынов пропускает тяжелые соединения слов, допускает прозаизмы. Мартынов понимает это и работает; но надо работать больше.
Вообще, недостатки Мартынова — недостатки молодости, даже мальчишества. Ножи и наганы его героев начинают превращаться из оружия в коллекцию. К этой же категории относятся неумеренные «шакалы», «босяки», «матросы», «барсы», «тигры» и т. п. следопытовские слова. Это, конечно, поэтическая корь. Это пройдет.
Мартынов не только поэт. Он журналист. Он, вероятно, будет хорошо писать рассказы. Сейчас он пишет хорошие очерки. Он кипит в жизни. Кто еще из молодых поэтов ведет газетные кампании? Леонид Мартынов, в омском «Рабочем Пути», дерется против избиения киргизок, против калыма, против позорного средневековья, живущего в аулах, на другом берегу Иртытша, в двух верстак от русских ВУЗ'ов.
Мартынов целиком наш. Я не пожалел бы для него никакой поддержки. Я готов биться за него в любых литературных боях!
Единственно, что ему может повредить, это — сибирская критика. Поэтому, кое-что о сибирской критике.
Противоестественная палка
-- Глупость, вообще, существует,
только не в нашем ведомстве.
(По Сырцову).
В «Сибирских Огнях» писали критические статьи Валериан Правдухин и Яков Браун. Писали они о Маяковском, о Пастернаке, о Всеволоде Иванове, о Замятине, Сейфуллиной и других окончательно сделанных и разделанных писателях. О сибирской литературе, о сибирской поэзии, создавшейся на страницах «Сибирских Огней», они, естественно, не писали. Для столиц же сибирские поэты и писатели — иностранцы и далеко не знатные. Замечают их только тогда, когда они появляются на московском горизонте. Поэтому, единственной ареной для оценки сибирских художественных произведений оказались страницы сибирских газет, главным образом «Советской Сибири».
Литературной критики у нас, конечно, нет. У нас есть, кое-какая литературная политика. Занимаются ей ответственные работники из той обширной группы, которую тов. Вегман недавно метко назвал «передвижниками». Порхающее литначальство, до текущего, почти, года, когда наметилась известная «стабилизация», не располагало ни временем, ни охотой серьезно заняться таким сложным и малоизвестным делом, как сибирская литература. Поэтому, вопреки всем естественным законам и даже «принципу относительности», литературная политика в Сибири оказалась палкой с одним единственным концом. Палка применяется исключительно «для выпрямления линии».
Печатаются, например, в «Сибирских Огнях» яркие революционные художественные произведения, завоевывающие впоследствии широкую известность. Сибирская печать о них молчит. В лучшем случае, стряпаются короткие информационные заметки, написанные писателями же. Но когда выпрямителям пригрезится пагубный идеологический срыв, в нашей печати появляются единственные большие статьи о сибирской литературе. После выхода из печати трех книг стихов, изданных «Сибирскими Огнями», «Советская Сибирь» напечатала два приветствия под заглавиями: «Поэт с лопнувшей душой» и «Отравленная Чаша Любви». Все провинциальные газеты выразились соответственно с краевым примером. О третьей книге, лучшей из всех, П. Драверта, не было ни одного слова: там не к чему было придраться! Ни одного слова не было сказано также о сборнике «Вьюжные Дни», потому что в сборник вошли революционные стихотворения.
…К событиям того же порядка относится совершенно мистическая история, случившаяся в редакции «Сибирских Огней». В № 5 журнала за 1922 год, в оглавлении и в справочнике (см. стр. 226), значится стихотворение Л.Мартынова — «Провинциальный Бульвар». Это первое стихотворение Мартынова в Сибирских Огнях» и потому многие его ищут. Но вместо стихов на указанной странице. «совершенно гладкое место». Случай, действительно, гоголевский. Чтобы прекратить бесполезные поиски, приведу это стихотворение.
Провинциальный бульвар. Извозчики балагурят.
Люди проходят, восстав от сна.
Так и бывает: проходят бури
И наступает тишина.
Что из того, что так недавно
Стыли на стенах кровь и мозг!
Ведь толстые люди движутся плавно
Через бульвар, где истлел киоск.
Что из того, что разрушенных зданий
Ясные бреши — на восток! —
Кончились, кончились дни восстаний,
Кончились, кончились дни тревог!
И только один, о небывалом
Крича, в истрепанных башмаках,
Мечется бедный поэт по вокзалам,
Свой чемоданчик мотая в руках.
Стихотворение было вырезано из готового номера, получив, разумеется, еще большую известность; все читали и думали над Эдиповской загадкой: «Где же здесь, эта самая, контрреволюция?» Тема стихотворения немного напоминает, в миниатюре, повесть Анны Караваевой «Берега». Естественно, что с «Берегами» у нас вышло нехорошо: повесть не напечатали. Немедленно напечатанная в центре, она была расхвалена не столько за свои художественные достоинства, сколько за нужную и верную тему…
…У нас, в Сибири, благодарная, на мой взгляд, среда для очень дружной работы. У нас нет литературных групп. У нас есть единый союз писателей. Подавляющее большинство поэтов и писателей — выходцы из рабочих и крестьян, советская интеллигенция…
Итого
1. Если среди поэтов и писателей России сейчас нельзя назвать имен, возвышающихся над вершинами русских классиков, то сибирская поэзия, гораздо раньше сельского хозяйства, индустрии и всех прочих видов человеческой деятельности, перешагнула «довоенный уровень», превзойдя его в десятки раз.
2. Когда-нибудь этот взлет станет величайшей гордостью Сибири, когда-нибудь он будет провозглашен первой сигнальной ракетой, возвестившей будущий расцвет сказочной нашей страны.
3. Поэты Сибири и поэты в Сибири за пять лет существования «Сибирских Огней» полностью опровергли вторую часть формулы В. Шанявца; но первая часть остается, как была. Нужной общественной теплоты по отношению к этому, любящему тепло и зеленому еще, побегу, поэзии, нет. Издать книгу стихов или художественной прозы здесь «еще невозможнее», чем в 1922 году.
Перспективы невеселые
Поэт-сибиряк: в Москве (положим, Иосиф Уткин). Известность, объявления в целую страницу в «Прожекторе», портреты, отзывы, фамилия на американских афишах, сборник стихов в Госиздате, гонорары и пр. и пр.
Поэт-сибиряк: в Омске (скажем, из уважения к авторитетам, равный Уткину — Леонид Мартынов). Гонорары вчетверо меньше. Объявлений нет. Отзывов нет. Книги стихов нет. Есть высокомерная невежественная ругань. Поэт в Омске очень ясно видит: в Москве, раз печатают, то и в обиду не дают. И поэт в Омске начинает смотреть на «Сибирские Огни», как на трамплин для разбега в «центр». Так мы теряли и будем терять лучшие силы.
Но!
Но все-таки, конечно, вертится!
Статья эта юбилейная, и я должен кончить ее добрыми надеждами. Ведь у нас все делается вдруг. Год назад железная дорога в Туркестан, — жаловался в печатаемом здесь очерке Леонид Мартынов (эти места вычеркнуты), — была несбыточной и далекой. И вот, «вдруг»—строим.
Не было центральной библиотеки — ездили почитать в Москву и Томск — и «вдруг» сознались: дело важное, давно пора.
Так же «вдруг» мы однажды решим, что нам необходимо и литературно-художественное издательство, и дружеская помощь прессы, и настоящая критика, и много других «и».
А пока — пока мой единственный во всей статье совет товарищам:
— Особенно не огорчайтесь. Утят по осени считают.
-------------------------------
Примечания
1 бадараны (якут.) -- непросыхающие болота.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»
(из доклада на первом пленуме
Западно-Сибирского оргкомитета
Союза Советских Писателей)
Пять лет назад, во время празднования юбилея «Сибирских Огней», за окнами бушевал такой же буран, как сейчас, видно, бури сопутствуют «Сибирским Огням»; но теперь, через пять лет, из которых четыре приходятся на годы первой пятилетки, в нашем городе выросли многоэтажные дома. Каменные стены не дают прежнего простора метелям.
В 1921 г., после выхода первых книг «Красной нови», в сибирских газетах и на обложках книг, выходивших в Сибири, появилось объявление, провозглашавшее, что «с февраля 1922 г. в Ново-Николаевске будет выходить литературно-художественный и научно-публицистический журнал «Сибирские Огни».
«В литературно-художественном отделе, — говорилось в объявлении, — будут печататься повести и рассказы, пьесы и стихи, главным образом, художественно воспроизводящие эпоху великой социальной революции и ее своеобразное жизненное отражение в Сибири, затем вообще художественные произведения, созвучные с великой современной эпохой, и, наконец, выдающиеся произведения общего содержания». Затем следовали отделы политико-экономический, популярно-научный, искусство и жизнь, библиография.
Издание литературно-художественного журнала в провинциальных условиях было делом исключительно трудным. Впоследствии в разных крупных центрах Советского Союза не раз возникали журналы типа «Сибирских Огней», но все они закрылись через один-два года после выхода первых номеров («Грядущий Мир» в Харькове, «Новый Быт» в Иваново-Вознесенске, «Красные 3ори» в Иркутске и др.).
Сибгосиздат, нынешний наш ЗапсибОГИЗ того времени, по воспоминаниям
Л. Н. Сейфуллиной¹, занимал угол в библиотеке Сибнаробраза. На двух отведенных Сибгосиздату столах работал, ел и спал весь его штат — заведующий В. П. Правдухин и секретарь Л. Н. Сейфуллина. Был у них, кажется, еще делопроизводитель.
«Под окном стояли мешки с мукой и постное масло — паек обоих. Под столом скатанные на день в трубку постели, корзинка с книгами и невеликий сверток с одеждой. Верхнее платье, из-за холода в помещении, всегда было на плечах. Вся хозяйственная утварь: стаканы, ложки и кастрюли — занимали подоконник. Это придавало библиотеке настолько неофициальный домашний вид, что уборщица Сибнаробраза обычно заявляла: «Ну, у себя вы уж сами уберете».
«Однако, в силу того правила, что работоспособность каждого учреждения обратно пропорциональна величине его штата, Сибгосиздат развивал энергичную деятельность. Заведующий, получив разрешение Сибревкома реквизировать на вокзале бумагу и целые вагоны книг, увезенных колчаковцами, скоро наполнил свои склады и открыл книжную торговлю. Секретарь с бою добывал внизу, в кухне, добавочное топливо для железной печки, следил, чтобы Сибгосиздату тоже дали кофеподобный напиток, когда его будут давать другим служащим, ходил с ордером в склад за недостающими канцелярскими принадлежностями, подтапливал печку».1
В Сибири в то время уже выявились кое-какие литературные силы. Омск издал даже два номера литературно-художественного журнала «Искусство». Некоторую деятельность проявляли Красноярское и особенно Барнаульское «лито». В Барнауле в то время жили Глеб Пушкарев, Лидия Лесная, П. Казанский, А. Пиотровский и А. Караваева, писавшая тогда «только самые заурядные стихи»…
…Красная армия прошла с боями всю Сибирь и надолго задержалась там, организуя ревкомы и партийные комитеты. По пути она впитала в себя отряды красных партизан и переварила почти всю белую армию, сдавшуюся в плен.
Многочисленная интеллигенция, бежавшая с белыми, была мобилизована на советскую работу. Часть этой интеллигенции присоединилась к белым из страха и неверия в победу революции. Часть работала потому, что «все равно какому чёрту служить». Часть осталась враждебной и при советской власти, выжидая, и порой усерднее всех рядилась в красный защитный цвет.
Я напоминаю об этом сравнительном изобилии всяческой интеллигенции в Сибири и, прежде всего, руководящих партийных и советских кадров, пришедших с Красной армией, чтобы до некоторой степени объяснить самую возможность возникновения в Ново-Николаевске начала 1922 г., ставшего центром Сибири, но оставшегося большой деревней, толстого литературно-художественного журнала, второго по времени возникновения в РСФСР. Замысел казался «дерзкой мечтой» самим издателям.
«Материальное положение Сибгосиздата настолько было плачевно, что заведующему им, т. Правдухину, предложено было даже работать по совместительству в соцвосе. Никакого расширения издательского дела совершенно не предвиделось. Будущим членом коллегии Сибгосиздата т. Басовым было внесено предложение на сибнаробразовском совещании о слиянии этого отдела с Сибполитпросветом. Но в библиотеке мечта неосуществимой казалась только мне. Правдухин, Яшин и Сорокин верили, что журнал будет. Размеры, отделы, внешность, сорт бумаги для журнала горячо и деловито обсуждались ежедневно. В тот день, когда Правдухин пошел с докладной запиской о журнале в Сибревком к т. Майскому, у нас в библиотеке потухла печка. Яшин упустил курьера, пакеты остались неотправленными, и дольше обычного задержался в библиотеке Сорокин. Мы ждали заведующего Сибгосиздатом под щитом или на щите. Правдухин явился неразговорчивым и хмурым. Тов. Майский решительно рекомендовал не поднимать больше этого вопроса. Но возмечтавшие упрямы. С того дня Правдухин в число своих служебных обязанностей включил еще хождение с докладной запиской об издании литературно-художественного журнала в Сиббюро и Сибревком. Собралась коллегия, наконец выделенная Сиббюро РКП для Сибгосиздата. Этот вечер мне навсегда памятен. Он определил мою судьбу. И люди, бывшие тогда в библиотеке, настолько родными, близкими ощущались мной тогда, что каковы бы ни были обстоятельства, разъединившие нас впоследствии с некоторыми из них, чудесное душевное единение, подлинное человеческое дружелюбие и общая целостная заинтересованность одним делом для меня навсегда останутся нерушимыми. Никакая обида, ни разочарование позднейшее не могут заставить вспомнить это совещание враждебно или просто холодно.
За столом, распахнув меховое пальто, сидел черноглазый, скуластый чалдон Ф. Березовский. Он ерзал локтями по столу и горячо, веско говорил о своей давнишней мечте — создании толстого журнала в Сибири, о важности его для объединения многих писательских сил, оторванных дальностью расстояния от центра. Правдухин жадно курил, поправлял очки, налегал на Березовского, дышал ему в лицо, громко, необычно для себя экспансивно утверждал:
— Вот в том-то и дело. Вот вы понимаете!» ( из воспоминаний Л.Н. Сейфуллиной)
В начале 1922 г… в редакцию журнала «Сибирские огни» вошли: …Ем. Ярославский, редактор «Советской Сибири» Д. Тумаркин, Ф. Березовский и В. Правдухин. С первых же дней постоянным участником и «доброхотным» секретарем журнала стала Л.Н.Сейфуллина, которой, по моему мнению, в еще большей степени, чем В.П.Правдухину, принадлежит заслуга первоначального собирания вокруг журнала литературно-художественных сил, рассеянных по Сибири.
«Ночами в библиотеке Сибгосиздата сначала заседала тройка: Правдухин, Сейфуллина, М. М. Басов, новый член коллегии Сибгосиздата, зав. Сибполитпросветом. На железной печке, в кастрюле шипела, жарилась баранина из пайка, секретарь Сейфуллина добывала в кухне чайник с кипятком, и до рассвета за чайником обсуждались мероприятия для привлечения сибирских писателей к участию в журнале. В Челябинске на конкурсе поэтов выступили Вивиан Итин и Нина Изонги. Правдухин был в числе жюри, хорошо их обоих запомнил. Начались их розыски по Сибири. Как трепетно ждали мы их ответа, как много говорили о них ночами втроем, Правдухин, Басов и я, у железной печки в библиотеке Сибнаробраза. Память об этом ожидании, как о новой любви, хранит сердце, не только мое» (там же).
Нечего и говорить, что мы, получая от журнала приглашение сотрудничать, написанное крупным детским почерком Сейфуллиной, тут же заражались ее энтузиазмом и ночами, после бесчисленных дневных обязанностей, садились за стихи и прозу.
В Омск т. Сейфуллина ездила сама, чтобы привлечь к участию в журнале Оленича- Гнененко, П. Драверта, Г. Вяткина. Однако журнал не мог существовать без крепкого ядра, созданного вокруг редактора. Из видных писателей, живших тогда в столице Сибири, можно назвать только Ф. Березовского. Л. Сейфуллина к тому времени написала лишь маленький рассказ «Павлушкина карьера», напечатанный в газете. Этот рассказ сразу заметил Ф. Березовский. Л. Н. Сейфуллина принялась за свою первую повесть для «Сибирских огней»…
…«Только теперь, в атмосфере столичных редакций, — пишет Л. Сейфуллина, — я понимаю, какой исключительной ценностью было отношение к журналу «Сибирские огни» всех его руководителей. Не было ни одного несостоявшегося заседания редакционной коллегии, ни одного невыполненного обещания о сдаче а срок материала для номера»…
…Первые номера «Сибирских огней», вышедшие в начале 1922 г., были блестящими по своему содержанию. В литературно-художественном отделе появилась повесть Сейфуллиной «Четыре главы», рассказ Ф. Березовского «Варвара». Для номера второго прислал рассказ «Амулет» Всеволод Иванов. Там же была напечатана замечательная «путевка в жизнь» Сейфуллиной «Правонарушители»…
В отделе библиографии давались рецензии на все без исключения книги, вышедшие в Сибири и о Сибири. С первого же номера появляются статьи о важнейших экономических проблемах Сибири, например, статьи о Кузнецком каменноугольном бассейне и гидроэнергетических ресурсах Сибири.
Высокое качество материала сразу привело к тому, что «Сибирские огни» встали на уровень центральных журналов, распространялись и получали отклики не только в Сибири. О первых номерах журнала появились рецензии и во всех газетах РСФСР.
А. В. Луначарский прислал в «Советскую Сибирь» специальную статью по поводу выхода журнала. Л. Н. Сейфуллина рассказывает, что во время своей поездки в Тифлис в 1924 г. она нашла в тифлисских библиотеках «Сибирские огни». Произведения, печатавшиеся в них, прорабатываются в школах. Л.Н.Сейфуллину, как писательницу, знали по «Сибирским огням».
О рассказе «Правонарушители» т. Асеев писал в 1922 г., как о лучшем произведении советской литературы, противопоставляя образ «положительного героя», строителя жизни Мартынова, обычным темам и настроениям попутческой литературы того времени. Но уже в той же рецензии т. Асеев доказывал, что Л. Сейфуллиной надо печататься в центральных журналах, уйти из «Сибирских огней», дошедших до Москвы «в ужасной обложке, с церковно-славянским шрифтом».
С первых лет существования журнала начался неизбежный процесс отъезда в центр лучших его сил. Уехали Ем. Ярославский, Сейфуллина, Правдухин, Березовский. Журнал перестал привлекать всеобщее внимание, продолжая свою работу по собиранию и выявлению новых литературных сил в более тяжелых условиях.
«Сибирские огни» возникли в первые годы НЭП’а. Новая экономическая политика давала нужный стимул для того, чтобы окрепла наша полуразрушенная промышленность, поднялась производительность труда, улучшилось материальное положение рабочих, выросла сельскохозяйственная продукция деревни. В то же время нэп открывал дорогу частнику в городе, кулаку — в деревне…
…Неправильному восприятию нэпа отдали дань многие близкие нам революционные писатели и поэты на страницах «Сибирских огней».
В. Вихлянцев писал (1924 г.):
«Дряблое хмурое небо
Улицы — тусклый ручей.
Может этого не было
В тихой жизни моей?
Только приснились бури?
Дни облачками текут.
Стены, избитые пулями,
Снова сравнял штукатур.
Снова себе прилизали
Улицы ровный пробор.
И, электричеством залитые,
Пучат витрины в упор.
Где вы, железные люди,
Буйных пожаров огни?!
Или мне причудились
Эти горячие дни?»
То же настроение передавал Иосиф Уткин:
«И даль тиха, и небо сине.
Не под сугробом — значит цел.
И на усыпанной осине
Последний вздернут офицер.
Паяет медь — огонь и окись,
Людей — огнеупорный пыл.
На память сотник черноокий
Наган и шашку подарил.
Сказал: — Братище, получи
И будет падями бродяжить.
Пора и на родной печи
У жениных погреться ляжек.
Куда бы зверь не забредал,
А все к норе обратно топать.»
(Сиб. огни», № 2, 1925 г.).
Даже Георгий Павлов, в творчестве которого все время звучит бодрость и крепкая учеба Красной армии, в начале 1926 г. вспоминал:
«Вышли сроки. Притушен буран.
Дали настежь и четче дороги.
Отпылал мой походный буян.
Только в памяти тлеют ожоги.
Отпускные непрыткие дни
Не спеша маршируют, с подсчетом.
Не видали, не знают они,
Как шагала моя полурота.
Опьянит что ж сегодня меня?
Сердце грезит большими боями,
А земля .жадно ждет зеленя
И пожар золотой над полями».
Писатель растерялся перед мелкобуржуазной стихией, окружавшей его. Многим показалось, что эта стихия и есть революция. Восприятие революции, как стихии, вообще характерно для художественного творчества того времени, в особенности для худжественного творчества писателей в Сибири. Первая статья В. Правдухина называется «И с к у с с т в о в с т и х и и р е в о л ю ц и и».
Владимир Зазубрин — один из самых талантливых сибирских писателей — открыто повторял тот же тезис: «Революция — стихия. Революция — мощный, мутный, творящий и разрушающий поток. Человек в нем щепка, люди — щепки. Капризно размечет и раскидает их поток в одном месте, капризно сгрудит, собьет в кучу -- в другом» («Сиб. огни» № 4, 1923 г., «Бледная правда»).
Пролетарская революция была не стихией, а восстанием против стихии. Пролетарская революция — борьба за план, за рациональную перестройку стихийного частнокапиталистического хозяйства. Ошибка Зазубрина не раз повторялась сибирскими писателями, тем более, что после отъезда Правдухина и Сейфуллиной он становится основным руководителем художественно-литературного отдела журнала, а с конца 1926 г. входит в редакцию «Сибирских огней».
Сюда надо прибавить вообще несколько мрачное, кровавое восприятие жизни, которое присуще творчеству Зазубрина. Ф.Тихменев, в своей статье «О литературных зазубринках Зазубрина», писал: «Грязь жизни столь часто отображаемую как придаток жизни, как сопутствующее ей явление, Зазубрин делает самодовлеющей, центральной. Это не случайная, привычная грязь, занесенная на сапогах, это — разительная вонючая грязь на нарочитой лопате. Уберите из «Двух миров» кровь, кошмары, садизм, из «Общежития» — вонь, грязь и сотрясающую брезгливость, и вы снизите их эффект на 75 процентов» («СО» № 2, 1928 г.).
Сибирская литературная критика, влияние которой могло бы быть решающим, не составляла исключения.
«Пролетарий в идеале, в искусстве, это член грядущего космического общества, — писал в своей первой статье т. Правдухин. — Самое главное — это создание действительно положительного типа человеческой личности грядущего внеклассового общества. Второй задачей искусства, в данный момент еще более важной и необходимой, является отсечение старых изломов, изъянов человеческого существа путем яркого, сатирического, бичующего изображения. У всякого класса найдутся свои Передоновы и своя Недотыкомка, свои Городничие и Ноздревы».
Едва ли сейчас нужно подвергать критике эти положения. По такой программе писатель должен был изображать пролетария, борца за новый мир, «в идеале, в искусстве», не таким, каким он был в жизни. И самой «важной и необходимой» задачей провозглашалось находить в нем Передоновых, Городничих, Ноздревых, Недотыкомок, вместо специфических его недостатков и достоинств. Неверно, конечно, что Передоновы и Ноздревы, перенесенные в наши условия, являются выражением «старых изломов» «своего класса», ибо они — наследие чужих классов и должны найти в искусстве свое «яркое, сатирическое, бичующее изображение» именно, как это наследие.
Почему не было отпора таким теориям с самого начала? По тем же причинам, по каким в то время печатались стихотворения, в роде «Ой, Сибирь, сторонушка кандальная, то не твой ли сын запевает снова песнь опальную». И. Ерошина и «Ангелы архангелы мои» Оленича-Гнененко. Я возражал против печатания «Старой Руси», а секретарь Сиббюро ЦК Ем. Ярославский говорил: «Нет, надо печатать, ведь это — стихи!»1. То была радость первых шагов по скользким вершинам искусства, еще не отвоеванных у врага. Красноармейцы вместе с оружием, орлами и трубами побежденных захватили чужие ноты. Певцы учились петь, а товарищи дивились, что ребята поют по самым отменным правилам! И пропускали мимо ушей, что поют они не своим голосом.
Своей пролетарской поэзии в Сибири не было. Ученическая подражательность, «чужой голос» звучали в стихах пролетарской молодежи. «Пролетарские побеги» (1932 г., Ново-Николаевск, орган Сиббюро комсомола) печатали стихи:
«Эх! бродить бы в голубых поемах
И серпом стиха колосья-звезды жать
И не думать, что Есенин, Клюев
Рассказали может быть про то давно».
…Я вспоминаю об этих «делах давно минувших дней», чтобы хоть очень бегло показать вам, почему у «Сибирских огней» первых 5-6 лет сложилось такое характерное лицо. Все ценное, что дал журнал и советская литература в Сибири, написано в тот период о прошлом, главным образом, о гражданской войне. Повести Сейфуллиной, «Золотой клюв» Анны Караваевой, «Зеленый клин» Павла Далецкого, рассказы Антона Сорокина, Глеба Пушкарева, Кондратия Урманова и М. Кравкова о гражданской войне, рассказы о старой Сибири Ф. Березовского, повести о дальневосточном партизанском движении Рувима Фраермана — вот актив первого пятилетия. В отделе статей также одним из наиболее ценных и постоянных был отдел «Былое», возникщий в конце 1922 г., после приезда в Ново-Николаевск В.Д.Вегмана, вошедшего а редакцию журнала, редактировавшего и составлявшего, главным образом, этот отдел.
Руководство художественной литературой, требовавшее сложной и длительной подготовки, осложнялось в Сибири недостатком кадров. Редакция «Сибирских огней» плавала между «Сциллой и Харибдой». Критика могла помочь писателю, могла и уничтожить. «Все значение, действие первых поощрительных отзывов знает только тот, кто дрожащими пальцами водил по их строкам и от волнения никак не мог разглядеть свою фамилию, — писала Л. Сейфуллина. — Увидев, с трудом переводил дыхание и вдруг ощущал горячую жизнь своего сердца, своей крови, своего «я». Никакого сомнения в авторитетности всех этих подписавшихся под рецензией своей фамилией, псевдонимом или ничего не говорящими буковками у меня не было. Не могло быть. Для оценки я вверяла первый плод трепетного, богомольного труда. От этого исключительного доверия авторов провинциальных, далеких от большой и сложной литературной жизни, не знающих ее реальной обстановки, существует для некоторых опасность быть прибитым в земь навсегда1. По крайней мере, я убеждена, что, если б провинциальная пресса не признала стОящей мою первую неслаженную, многоизъянную повесть, я не нашла бы в себе достаточного мужества даже попытаться сладить со второй. Для меня это представлялось так, что я выплыла, почти не умея плавать, на большую глубину. А кто-то, верно знающий мою судьбу, следит за мной. Если он крикнет: «не выплыть!» — как же усомниться и не потонуть?».
Л. Сейфуллина была единственным художником в «Сибирских огнях», благополучно перешедшим огненную черту гражданской войны; но, написав в 1922 г. «Правонарушителей» — «в призрачный час предрассветный» -- «как песню», она говорила мне, что боится отрицательного отзыва критики. Она ждала другого отношения к рассказу, чем к первой ее «многоизъянной повести». Очевидно, у тов. Сейфуллиной были свои представления о требованиях критики.
О прошлом и о гражданской войне писатели, участники ее и очевидцы знали, как писать. Они знали, как изображать врага и как изображать коммуниста, красноармейца, партизана. Когда же писатель пришел с фронта в настоящий день, он, по военной привычке, увидел то, что «прет вперед», т.-е. «самое отвратительное», по выражению т. Ходоровского. Отсюда — в произведениях о деревне — кулацкая глухомань, зеленая топь, зеленая стена, самогонное марево; в произведениях о городе — «Общежитие» В. Зазубрина — автора первого советского романа о гражданской войне «Два мира». «Общежитие» оказалось настолько густой карикатурой на советский быт, что повесть немедленно была перепечатана за границей, с предисловием Арцыбашева, к радости белогвардейцев. В «Общежитии» — «на углу Октябрьской и Коммунистической улиц» — гибель от похоти, сифилиса, безудержной распущенности; в «Бледной правде» —
коммунист Аверьянов гибнет, как заклеванная белая ворона, от своей кристальной честности, целомудренности, верности революции. Он гибнет, как герой классической трагедии, падающий перед судьбой. В обоих случаях окружающее — мрак, стихия, и «человек в ней щепка». Третья повесть В. Зазубрина «Щепка», относящаяся к там же годам (1922-23 г.), не была напечатана.
Перейдя черту,
Тангенс высочайшей воли
Вдруг проваливается в пустоту…*
Критика творчества В. Зазубрина резко делилась на два лагеря, но делала одно и то же дело. Одни аплодировали пловцу, попавшему в водоворот, чтобы пловец заплыл на еще большую глубину, другие вопили: «Не выплыть». С тех пор В. Зазубрин, в течение десяти лет не напечатал ни одного нового художественного своего произведения, не считая двух-трех незначительных очерков. Вот почему мы так ждем появления нового произведения В. Зазубрина, на этот раз в «Новом мире».
…Павел Васильев впервые почувствовал красоту индустриальной темы, противопоставив в стихотворении «Сибирь» грядущие завоевания пятилетки таежной романтике сибирской литературы.
«Теперь другие подвиги и вкусы,
Моя страна, спеши сменить скорей
Ты бусы из клыков зверей
На электрические бусы» (№ 1, 1928 г.)
--------------------------------------------------------
* Курсив везде мой. — В. И.
Даже И. Ерошин (этот не столько сибирский, сколько «персидский» поэт) дал стихо-творение «Британии», направленное против империализма.
Последний номер журнала за 1927 г., составленный, во время отъезда В. Зазубрина, из произведений, данных Сибирским союзом писателей, представляет собой резкий контраст «глухомани» ряда смежных номеров. В нем напечатаны следующие, известные вам произведения: «Партизаны» — поэма П. Петрова, «Петроградская эпопея Петра Куницы» Георгия Павлова, «По уважительной причине» А. Шугаева, «Без кавычек» Ник. Дубняка (рассказ, показавший быструю перестройку автора-коммуниста, после ошибочной его трактовки соотношения классовых сил в «Зеленой топи»), «Песнь о живом кургане Азах» Ант. Сорокина, «Утро» А. Коптелова, очерки М. Кравкова — «Тельбесс» и
Л. Мартынова «Горы, руды, люди», статьи: Р. Эйдемана «Уличные бои во время восстания», А. Топорова «Деревня в современной художественной литературе» и др.
«Теперь мы рубим здесь леса
Для наших новых мирных зданий.»
писал о тайге, о «зеленой стене» старых сибирских писателей И. Мухачев (разрешите мне, для краткости, иллюстрировать мой доклад преимущественно образами наших поэтов)…
…В это время в «Сибирских огнях» печатались: известный роман Е. Пермитина «Капкан» (в ряде отдельных глав), роман П. Петрова «Борель», неоднократно рекомендованный впоследствии М. Горьким, повести, рассказы и очерки М. Гольдберга, Г. Пушкарева, Н. Чертовой, К. Львовой, М. Никитина, Е. Минина и др., много превосходных стихов. Особенно расцветает очерковый жанр, в котором писатели Западной Сибири скорее всего смогли отозваться на боевые вопросы социалистического строительства.
В 1930-31 г. художественные очерки начинают занимать еще более доминирующее положение. В то же время в журнале печатается ряд крупных произведений сибирских писателей: «Поэма о фарфоровой чашке» Ис. Гольдберга, «Горькая пена» Н. Чертовой, «Светлая кровь» и «Первый рейс» Коптелова, «Дорога на Алдан» П. Стрижкова, «Болты» Ник. Кудрявцева и др.
У меня нет времени для того, чтобы остановиться хотя бы на одном из этих произве- дений 1928-31 г., но необходимо отметить переход какой-то существенной грани, выход советской литературы в Сибири в новый период развития. Основное, конечно, не в смене руководства, даже не в смене темы (у Пермитина — первые художественные зарисовки перехода к коллективному труду в дикой деревне Алтая, а Н. Чертовой — завод при нэпе, у Петрова и Гольдберга — восстановительный период), основное в новом художественном восприятии, в глубокой перестройке советских писателей в Сибири, связанной с началом пятилетки, с первыми крупными успехами социалистического строительства на пустынных пространствах азиатского материка. Этот процесс протекал у нас скорее, чем в более широких слоях писателей, если брать общесоюзные масштабы. Уже в конце 1928 г. омская группа Сибирского союза писателей, поддержанная всеми остальными, требовала переименования союза, с соответствующими выводами, в Cоюз советских писателей. «Основной задачей, стоящей перед каждым членом ССП, говорится в резолюции омичей («С.О.» № 1, 1929 г.), — является художественное познание действительности, с целью содействия культурной революции и социалистическому строительству». «Мы должны быть застрельщиками в беспощадной борьбе со всякой «азиатчиной», обывательщиной, мещанством. Изображению нашей страны с точки зрения захолустного обывателя, «хлыстовствующего во стихии», должен быть положен конец. Мы должны смотреть на Сибирь с точки зрения промышленной стройки, огромных промышленных возможностей, гигантских сырьевых запасов, используя которые, пролетариат превратит Сибирь пустынной тайги и тундры в «Страну Будущего».
Здесь влияли и особая роль Урало-Кузбасса в первой пятилетке, и пройденные классовые бои, и состав наших писателей, в большинстве являвшихся молодыми писателями, с энтузиазмом принявшихся за дело «содействия культурной революции и социалистическому строительству» в нашей отсталой стране.
В это время возникает Сибирская ассоциация пролетарских писателей, творческий рост которой прямо пропорционален количественному и культурному росту сибирского пролетариата. Формально, конечно, СибАПП возникла значительно раньше, но представляла собой весьма пеструю смесь, используемую больше в целях литературного политиканства, чем для осуществления творческих задач…
…Значительная часть Сибирского союза писателей, ставшего в 1930 г. Сибирским отделом Всероссийского союза писателей, оставаясь в союзе, вошли в СибАПП, создав основное ее ядро (А.Высоцкий, В.Вихлянцев, Н. Кудрявцев, Г. Павлов, Н. Чертова др.), что, прежде всего, являлось еще более четким выражением желания сибирских писателей идти в одних рядах с пролетариатом, строящим социализм — «Страну Будущего». Другая часть ССП (Е. Пермитин, А. Коптелов, М. Никитин и др.) образовала объединение пролетарско-колхозных писателей, во главе с приехавшим к нам известным поэтом Александром Алексеевым. Образовался Сибирский отдел Федерации советских писателей, третий отдел в РСФСР после Москвы и Ленинграда), в который вошли все основные организации: ССП, СибАПП, РОПКП, ЛОКАФ. Оживлению деятельности литературных организаций сопутствовал количественный в качественный рост литературных произведений. В то время в Сибири и в центре вышло несколько сборников и отдельных книг сибирских писателей, в большей части предварительно печатавшихся в «Сибирских огнях»…
…Призыв ударников в литературу внес на страницы журнала свежую струю новой рабочей тематики; но цель призыва не была поднята на принципиальную высоту. Цель призыва — выработать своих мастеров культуры, своих рабочих-писателей. На деле же, вместо длительной и упорной работы с призывниками, под видом их достижений в журнале печатались слабые вещи. В очерке «На Чулыме», помещенном в литературно-художественном отделе одного из номеров журнала за 1932 г., рассказывается, как в бутылках, вместо спирта, оказалась литература; но «спирт», очевидно, все-таки попал в литературу, так как от всего очерка отчетливо пахнет спиртовым лаком. В «Двух прорывах» т. Александрова не нарисовано ни одного прорыва, а задача помощи деревне разрешается резолюцией о написании коллективного письма отцу героя-ударника: вступай, отец, в колхоз. Все это вызывает недобрую улыбку: хотя бы плуг отремонтировали! Попросту, взаимоотношение города, завода и деревни трактуется неправильно, потому что зерно так же строит заводы, как металл и камень, потому что зерно идет в землю однажды в год, и во время посевной кампании завод оказывает деревне гораздо более существенную помощь, несмотря на прорывы.
Дело, впрочем, не в помещении на страницах журнала отдельных слабых произведений. При наличии только одного журнала в нашем крае и желании поддержать молодых писателей это вполне понятно. Хуже то, что эти произведения не находили правильной товарищеской оценки, расхваливались, чем порождалось никуда негодное чванство. Мелкость темы, неумение подняться до больших вопросов современности отмечает этот период понижением качества некоторых номеров журнала и понижением внимания к нему…
… Многим, вероятно, покажется не соответствующим юбилейным настроениям то, что в своем докладе я обратил ваше внимание на «некоторые ошибки, правые и «левые», допущенные журналом; но это совершенно необходимо для того, чтобы отрицательные, стороны прошлого не отражались на нашем будущем. Для нас — это самое главное.
Превращение «Сибирских огней» в орган Союза советских писателей создает все условия для дальнейшего роста художественной литературы в крае на основе постановления ЦК. Последние номера ((№ 9-10 и 11-12) уже отмечают этот рост.
Мы прошли 10 лет, заканчиваем 11-й, вступаем в 12-й год издания. На этом длинном для нашей молодой, литературы, трудном, иногда героическом пути мы приняли много боев, испытали радости многих побед, потерпели много поражений. Теперь у нас есть все данные, чтобы двигаться вперед и двигаться быстрее. Мы окрепли в классовых боях. Теперь никто не собьет нас с пути. Рельсы Кузнецкого гиганта ведут нас к социализму. Сибирь каторжная становится Сибирью социалистической. И едва ли найдется в нашей среде хоть один писатель, который чувствует себя зрителем, а не участником этого процесса…
Всесоюзный оргкомитет Союза советских писателей… констатировал что западносибирский отряд советской литературы является наиболее значительным после Москвы и Ленинграда. Этому первому месту на периферии Западная Сибирь обязана журналу «Сибирские огни». В «Сибирских огнях» печатались первые произведения писателей, известных сейчас всему Союзу (Л. Сейфуллина, В. Зазубрин, Исаак Гольдберг, Анна Караваева, Нина Смирнова, Ф. Березовский, Е. Пермитин). Ряд молодых писателей и поэтов Сибири также завоевывает не только «краевую» известность: Н. Чертова, М. Никитин, А. Коптелов, П. Стрижков, Георгий Павлов, Павел Васильев.
Растут новые кадры молодых писателей и неизвестно — кому еще будет принадлежать первое место в их яром соревновании. Самое главное — у нас есть писатели, настоящие писатели. В этом основная эадача каждого литературного движения. Западная Сибирь в праве гордиться своим единственным первым местом, занимаемым ею в ряде других краев. То внимание, которое оказала «Сибирским огням» в день празднования десятилетия журнала партийная и советская общественность, является залогом постоянного участия в журнале лучших сил края. Участники первого западносибирского пленума оргкомитета Союза советских писателей должны считать дело улучшения своего журнала постоянной своей задачей…
Сибирские огни, 1933, №1-2, 148-156
Примечания
¹ Л. Сейфуллина. «Памятное пятилетие», «Сибирские Огни», № 1, 1927 г.
ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА
I. Мышление и образ1
Советским писателям надо многому учиться у классиков, но учиться у классиков это значит, прежде всего, — изучать, каким образом классики находили форму, в которую они вкладывали свое содержание. Нельзя вопрос решать так, что, например, храм Василия Блаженного на Красной площади — прекрасное произведение, поэтому давайте построим рабочий клуб, как храм Василия Блаженного. Он именно хорош тем, что выразил в своей форме юродствующую Русь времен Ивана Грозного. Построить рабочий клуб, подражая такой форме, значит совершить вредительство. Даже Лев Толстой говорил, что в искании новых путей в искусстве есть доля истины. Он говорил: «Когда я беру новую книгу и читаю: «Было раннее утро» — я дальше не могу, мне хочется спать. А сколько советских книг начинается с этого классического «было раннее утро».
Докладчик установил, что советская литература все еще отстает от жизни, поэзия отстает больше лрозы, а критика отстает не только от жизни, но и от литературы, и от поэзии. Справедливость требует прибавить, что литературная теория отстает еще больше критики, чем отчасти объясняется общее отставание. У нас нет книги, обобщающей наши теоретические, уже достаточно глубокие, знания по вопросам искусства, написанной на основе современной науки, на основе наследства Маркса, Энгельса, Ленина, нет той марксистско-ленинской эстетики, о которой упоминал т. Юдин в своем докладе. Мы пользуемся плохо продуманными положениями даже в основных вопросах теории. Мы, например, до сих пор определяем искусство, заимствуя определение Плеханова, как «мышление в образах». Так определяют искусство т. Кирпотин и ряд других критиков. Но сказать, что искусство – мышление в образах, это значит сказать не больше того, что здание построено из кирпичей.
Значение образа в искусстве огромно, но это определение еще не дает всей специфики художественного творчества. Тов. Ермилов в одной из своих статей писал, что искусство оперирует образами, а наука -- отвлеченными понятиями. Последнее отчасти верно по отношению к теоретическим наукам. Но есть науки, которые оперируют конкретными, «образными» понятиями. Образное мышление в значительной мере применяется и в науке. Между искусством и наукой нет принципиального различия в способе мышления. Подлинная художественная работа подобна работе исследователя и лучшие произведения мировой художественной литературы носят ясные следы такой исследовательской работы. Плехановское определение, по меньшей мере, не адекватно. Пинкертоновщина, самая грубая порнография, с точки зрения этой теории, тоже искусство, так как, несомненно, являются «мышлением в образах». Искусство есть продукт художественного творчества. Его надо изучать, исходя от художника, а не от материала. В основе искусства лежит эстетическое восприятие, так же, как в основе науки лежит стремление к истине…
…Я поднимаю этот вопрос и потому, что плехановское, часто плохо понимаемое определение, в особенности, у начинающих авторов, ведет к сугубой порче языка, к желанию говорить каким-то особым языком, ведет к представлению о писателе, как о субъекте, мыслящем особым способом, отличным от мышления «простых смертных». Я, по обязанности редактора, недавно читал одну рукопись. Автор не скажет: стул, а скажет «четвероногая раскоряка», не окажет «порог», а скажет «челюсть избы» (это уж из Есенина). Он пишет: «Ранняя весенняя роса чернявила и без того чернявый чернозем Центральной Черноземной области». Или: «Ветерок завивал его курчавую марксистскую шевелюру». Один симпатичный начинающий писатель из крупного индустриального центра (Кемерово) рисует своего героя такими «образными мазками» : «Брови плавали как узкие дождевые тучи над ямами глазниц и ровный хрящеватый нос опускался вниз к голому полю усов». Другой такой самосочинитель, в подражание классикам, писал:
«Сегодня в море будто качка,
И солнце светит с высоты.
Прими привет лихой, батрачка,
Видение чистой красоты».
Очень важен для нас вопрос о языке. Совершению правильно выдвинул этот вопрос т. Горький. Этот вопрос особенно обостряется у нас на периферии — в краях, областях, например, в Сибири. Мы говорим: пим, тайга, варнак и т. д. Но дело не в том, что нельзя употреблять такие «областные речения». Их, наоборот, нужно употреблять и изучать.
Я помню устье Колымы, зимой, когда дует юго-западный ветер, самый холодный зимой и самый теплый летом, -- мой каюр сказал: «Вот, шалонник задуват».
Шалонь —это новгородская река. Шалонник — юго-западный ветер по компасу поморов. Колымчане давно забыли свое поморское происхождение, забыли, что они поморы, а слово выдает их происхождение. Колымчане — потомки тех казаков и мангазейцев, которые еще в XVII веке пришли Северным морским путем к устью Колымы. В Нижнеколымске, в Среднеколымске среди русских и якутов, часто встречается фамилия Колмогорцев. Холмогоры-Колмогоры-Архангельск. Один из притоков Колымы называется «Магазейка», несомненно это от Мангазеи.
Алексей Максимович Горький высоко оценил книгу Вагнера «Человек бежит по снегу» (написал к ней предисловие), где хорошо записан колымский диалект, который отличается от русского языка более всех других диалектов. Но важно, чтобы все эти диалекты подавались в обрамлении чистого литературного языка, которым должен уметь писать автор. Важно, чтобы не было у читателя никакого сомнения, что так говорят в таком-то месте, такая-то социальная группа, а так нужно говорить литературным языком. Прав Алексей Максимович, что надо изгонять из литературы всякие паразитические словечки,…оставляя из областных слов только слова, возникшие в своеобразных трудовых процессах, как, например, тот же поморский компас.
II. О языке и критической бойкости
Мне не раз приходилось выступать против извращений горьковских статей о языке. Почин т. Горького всем нам должен быть дорог. Вместо глубокого понимания статей Максима Горького, его мысли нередко пытаются превратить в догму, т.-е. наиболее ненавистное для него самого. Некоторые критики с большей или меньшей бойкостью начинают выискивать у писателей отдельные языковые ошибки, о которых упомянул т. Горький, сводя к этому занятию подлинную борьбу за высокое качество языка. Нечего говорить, что такие критики, даже в узкой своей области, ошибаются не меньше писателей.
Ник. Надымов в №6 газеты «Литературная Сибирь» задался благой целью бичевать «загромождения отдельных художественных произведений словесной шелухой и хламом». С этой целью он выписал несколько фраз из произведений «крупных культурных писателей». Ник. Надымов нападает на И. Гольдберга за такие выражения: «Строчки мертво мелькали». «Слова эти падали на нее». «Мысли наползали». Можно критиковать И. Гольдберга эа его стиль, но зачислять подобные выражения в разряд «загромождения словесной шелухой» в «словесного брака» значит дезориентировать писателей.
Вовсе не плохо сказано: «одинокий глаз. замкнулся веселыми лучами». Ведь говорится об усмехающемся одноглазом человеке, вокруг единственного глаза которого возникли лучеобразные морщинки. Или: «черные рукава профессорского сюртука взмахивали все чаще». Ведь восприятие дается через сумеречное сознание душевнобольной, которую профессор гипнотизирует. Никого не обманет также: «3а окнами был серый, с примесью гранита, петербургский туман», — так как дается пейзаж нарочито живописными приемами (осенние листья «цвета индийской желтой» и т. п.).
Конечно, можно писать так: «За окнами был туман серого цвета, сквозь который просвечивали петербургские здания, построенные в основном из гранитных камней красноватого вида». Или: «Глаз одноглазого человека отобразил веселье». Дело вкуса. «Остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она предполагает ум также и в читателе» (Лен. сб. XII, 119), а тем более в критике. Писатель обязан уважать своих читателей.
Простота и вульгаризация — вещи противоположные. Добиваясь простоты, мы не думаем отказываться от передачи сложных переживаний, понятий, оттенков.
«Теперь об излишествах в употреблении областных слов» в понимании Ник. Надымова. Здесь он ограничился одним примером из романа «Светлая кровь», напав на т. Коптелова за слово «ченгерак», что означает особое дымовое отверстие вверху юрты. Пример чрезвычайно неудачен. М. Горький обратил внимание на «областные речения» потому, что под марочкой писательского «краеведения» в литературу поперла идиотическая белиберда, смысл коей подчас сами «краеведы» отказываются объяснять непосвященным. Наша критика могла бы указать множество примеров засорения языка в сибирской советской литературе. Например, на сотне маленьких страничек интересной повести для юношества П. Гинцеля «Пестун» (редактор Г. Пушкарев) читаем — «Мельтесившие собаки», «опасна ее, собаченку», «натрыжный пес», «хрясло», «бет-кнулся», наблошнился», «ухряпал, ухаляздал, ухайдакал», «банька у нас угоена первый сорт, как бы вреды не было», «расквелишь еще хуже», «чего попусту шишляться», «то ли дело я ее как конфеточку христову выгою», «шапку сварганить, воротничек сгоношить», «выпатрат, изнахратит, замузолит, своя рожа скособенится», «настоль заровата», «председателя посадил на жерлицу, а после этого и сам в фитиль затюхался», «эк заскудался», «Николка век в рямках ходил, прежде времени салаги врозь у мужика поехали» и т. д. Большинство подобных «областных речений» и коренной сибиряк не поймет в точности без словаря. Ничего не стоит также т. Гинцелю сказать:. «На пороге показалась широченная борода» или «бросая тень на снег, направился к пеньку» и т. п.
Многие другие сибирские писатели не меньше П. Гинцеля грешат своеобразным неумным хвастовством: услышат какое-нибудь вывороченное слсвечко и сейчас же в блокнот. «Я, мол, больше вашего знаю!» Один из сибирских романов называется «Борель», что будто бы означает особый вид леса. Этой «борели» нет не только в академических словарях, но даже т. Ошаров, который «собаку съел» на диалектах обитателей берегов Енисея и всех его притоков, такого слова не знает и не слыхал.
Другое дело непереводимые обиходные слова туземцев. «Ченгерак» не переведешь словом дымоход, якутский «огох» не назовешь камином. Объяснив эти слова, автор должен употреблять их, если они прочно слиты с содержанием его произведения.
На вечере у Максима Горького делегаты пленума всесоюзного оргкомитета писателей стали приветствовать своего любимого вождя на родных своих языках. Выслушав несколько десятков непонятных восклицаний, т. Горький помечтал вслух о том, что когда-нибудь все народы будут говорить на одном языке. Такой язык возникнет, между прочим, и путем постоянного заимствования слов общающимися народами.
Каждая новая победа социалистического строительства вносит десятки слов в литературный язык. Мы привыкли к множеству технических и научных названий, употребление которых в литературе должно становиться все шире. Арктические победы вносят в язык морские и ледовые термины. Одних названий различных видов льда существует больше 20. Задача литературы заключается в правильном отборе слов. Если наши .критики начнут воевать с этими новыми словами, объявляя их «словесным браком», по примеру Ник. Надымова, — они окажут литературе медвежью услугу.
В то же время нужна непримиримая мужественная борьба, невзирая на лица, за подлинное повышение качества языка наших писателей. А язык этот часто сер, однотонен, полон неправильных оборотов.
Вместо выписывания «ченгераков» Ник. Надымов мог бы оказать т. Коптелову гораздо более существенную помощь. Провинциализмов в романе «Светлая кровь» немало (напр. — «Он переметнулся через плетень и пошагал к избушке» и т. п.). Я открыл наудачу четырнадцатую главу романа «Светлая кровь» — всего две странички. Автор пишет: «Поднимаясь по пологим сходням наверх возводимых устоев, он думал». Раз «возводимые», значит «наверх»; вообще оба слова лишние, мусор, так как читатель давно знает, что устои «возводят».
«Артель за восемь часов угоняла к лощине. девяносто вагонеток» вместо откатывала. А сколько на этих двух страничках фраз, отражающих влияние канцелярских отношений и докладов! «Срок постройки моста через овраг дали очень короткий. Вначале Адрианов сомневался, что устои будут закончены ко времени привоза ферм. Условия работы были исключительными по трудности. Стенная газета была наполнена фактами о перевыполнении планов» — и т. д. Вот где главная опасность и действительно главное препятствие для дальнейшего роста многих наших писателей, а не в «ченгераках». Тов. Коптелов, как и многие другие писатели, вышедшие из низов, учился «интеллигентному» языку в районных учреждениях, в районной газете. Язык канцелярий не одному деревенскому парню казался образцом. Между тем это худший из жаргонов, часто гораздо более далекий от литературного языка, чем язык крестьян, каким говорят герои т. Коптелова.
Недавно вышло второе издание «Светлой крови». Ни наши критики и редакторы, ни наши издатели ровно ничего не сделали, чтобы это второе издание было лучше первого.
Русский язык требует постоянного обдумывания каждой фразы, каждой формы речи.
Иностранцы приставали ко мне: почему — четыре стола и пять столов? Пять ножниц, но никак не четыре ножниц? Возьмем однородные слова: боров, бор (лес), вор, сор, бор (элемент). Мы говорим боровий хвост, боровой гриб, воровской жаргон, сорная трава. Нельзя сказать борная трава, зато без сомнения есть борная кислота.
Если в подобных словообразованиях путаются по большей части только начинающие авторы, то в построениях фраз путаются и «маститые». Рукописи полны постоянными соединениями многократных и однократных видов. (В «Светлой крови» попадаются такие сверхъестественные фразы: «Снова сквозь пламя прыгнул во двор, бросая человека вперед себя» и т. д.). Неправильной расстановкой слов — тунгуска вошла в чум с мясом (М. Ошаров), студенты лежали на кроватях с книгами (В. Глебов); он сидел у печки за столом (Ламакин); люди в широких шароварах, которые шагали рядом с ним (Н. Кудрявцев); нагромождением придаточных предложений и осточертевшими «уже», «а», «как-то», «что-то», «почему-то», свидетельствующими о том, что сами авторы не знают ни «как», ни «почему» происходит то, о чем они пишут.
Для борьбы с этой языковой язвой, ратуя за ответственность «наших газет, журналов и издательств за качество каждой строки», Ник. Надымов предлагает организовать, «самую тщательную редакционную правку всего материала, направляемого в печать». Все беды, по мнению критика, происходят от «нерадивости» редакторов. Панацея весьма простая, но в больших дозах — яд, как все лекарства.
В практике работы «Сибирских Огней» громадная переработка рукописей начинает превращаться в яд.
Есть опасность, что чем больше мы будем править, тем небрежнее будут становиться рукописи. Иные авторы не утруждают себя работой над языком именно в надежде, что «редактор укажет, редактор поправит». Надо добиваться, чтобы писатели отвечали за каждое свое слово. Ни один редактор не сможет написать за другого автора с такой же тщательностью, с какой он работает над своими произведениями. В №1 дальневосточного журнала «На рубеже» т. Фадеев рассказывает, что, работая над «Разгромом», он переписывал его пять раз, а некоторые главы двадцать раз. Кто из наших писателей переписал двадцать раз хоть одну страницу своих творений?
Мне остается присоединиться к заключительному предложению Ник. Надымова:
«Наладить в редакциях серьезную и тщательную редакционную работу», так как от Ник. Надымова, давшего несколько хороших критических статей, мы вправе ожидать серьезной работы и в области борьбы за качество литературного языка.
III. Очерк 2
Проф. О.Ю.Шмидт, покровитель очеркистов, в предисловии к книге Улина «Нэн» писал: «Важно иметь наряду с очеркистской литературой и подлинно художественные произведения. Роман Улина «Нэн» один из первых осуществляет эту задачу».
В этом «подлинно художественном» произведении, между прочим, чукчи говорят, как герои ложно - классических пьес:
«О, вы все скоро увидите, каким великим станет Аттек! Мое слово поднимется выше моей руки! Слово пригонит ко мне и оленей тундры и песцов! Слово приведет ко мне сказочника Ангонаута… Я сказал!» и т. д.
Таким образом, по мнению проф. Шмидта и, вообще, по очень распространенному мнению, есть два сорта литературы: подлинно художественная литература и -- (второй сорт) очеркистская. Этот взгляд, конечно, не часто выражается с такой непосредственностью, с какой его выразил т.Шмидт, но взгляд этот очень распространен. Внешнее внимание к очерку, которое демонстрирует наше Всесоюзное совещание, и успех многих очерковых книг, -- еще не может считаться прочно завоеванным признанием очерка. Напротив, очерк часто проживает по подложному паспорту. «Цусима» -- одно из лучших произведений советской литературы. «Цусима» несомненно очерк. Но на данном совещании никто даже не упомянул этого выдающегося явления очерковой литературы, словно боясь его скомпрометировать. Автор «Цусимы» здесь не присутствует, -- «Какой же, мол, Новиков-Прибой очеркист? – Он – «подлинный писатель», поэтому он и не считает нужным зайти на Всесоюзное совещание очеркистов, это – не его «жанр». Между тем, лучшее произведение, которое он написал, и одно из лучших произведений советской литературы – «Цусима» -- несомненно очерк.
Очерки Макса Зингера «Тагам» и «Огни» названы повестями. Эти, бесспорно интересные, книги, написаны о стране, в которой я был, о людях, которых я знал, там нет ни одного вымышленного имени, ни одного вымышленного положения. Зачем же называть очерки повестями?
Выступавший на нашем собрании рабочий писатель т. Пашкевич сказал: «Я написал книгу очерков, но назвал ее повестью. Ей-богу, -- говорил т. Пашкевич, -- не знаю, почему я назвал очерк повестью?!».
Все это свидетельствует о скрытом пренебрежении к очерку. О предвзятой мысли, что очерк второстепенная литература, и что, следовательно, в очеркистах ходить невыгодно.
-- Только не пишите очерков! – поучал меня в покойном издательстве Московского товарищества писателей один знаменитый писатель.
Практика наших толстых журналов подтверждает мнение знаменитого писателя. Хорошие очерки печатаются на задворках, в разделе «Люди и Факты», а плохие романы на первом месте. Ясно, что даже оставаясь очеркистом, прямая выгода называть свои произведения романами, повестями, рассказами.
Тов.Третьяков утверждал, что очерк идет от газеты, что очерк есть соединение искусства и газеты. «Очерк стоит на грани науки и искусства» -- поправлял его т.Пришвин. Точнее: очерк есть соединение знания и искусства. Очерк может быть соединением искусства и газеты, когда очерк основан на репортаже, на статейном материале, может быть и подлинным слиянием с наукой, где органически слиты искусство и наука.
Надо подчеркнуть, что знание и искусство соединяются у нас отнюдь не только в очерке. Лучшие произведения советской литературы в какой-то мере выделяются тем же новым качеством, стремлением к художественной правде. «Цусиму», «Поднятую целину», «Капитальный ремонт», «Петр I», «Кара-Бугаз» можно поставить в одну рубрику. Они отличаются знанием и страстью исследователей, выраженным в той или иной художественной форме. То же самое надо сказать о всех произведениях Максима Горького.
Таким образом, очерк отличается не только «соединением искусства и знания» но и фактичностью материала.
Все это, конечно, есть описание, а не научное определение. Отвечая тем товарищам, которые требовали такого определения, надо сказать, что очерк не научное понятие. Точного определения очерка дать нельзя. Это понятие основано на профессиональном словоупотреблении. Попробуйте определить, что такое «овощи»? Это вам не удастся. Мы любим репу, чукчи – жеваный мох. Тем не менее, мы отлично знаем, что такое овощи.
Наш советский очерк не столько понятие, сколько тенденция советской литературы к достижению истины, ощущение красоты мысли, искание более совершенного литературного оружия в борьбе за строительство социализма. Эта тенденция не только не требует маскировки, но, напротив, является лучшим свойством советской литературы, образом того искусства будущего, черты которого все яснее вырисовываются в настоящем. Поэтому мастерство очерка нужно всемерно поддерживать и развивать.
Фактичность материала в очерке отнюдь не исключает композиции, выдумки и всех прочих приемов литературы, о которых говорили здесь, но все эти приемы должны применяться в очерке по-своему и поэтому все эти приемы в очерке труднее.
Тов. Шкловский, докладывавший нам об искусстве очерка, говоря о необходимости композиции, проповедовал на деле совсем другое. По мнению тов. Шкловского, самое отношение художника к миру, так ярко выраженное в пушкинском «Путешествии в Арзрум», не что иное, как хитрый формалистический прием. Насколько это неверно, можно судить по другому классическому очерку -- «Фрегат Паллада». По Шкловскому следовало бы признать, что Гончаров сознательно изобразил себя мыслящим Обломовым.
Вспомните неприязнь Гончарова к морю, вспомните, как он боялся ехать верхом из Аяна, как, наконец, сел на подушку, привязанную поверх седла, как взбирался на первый маленький перевал: «Я шел с двумя якутами. Один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее, иногда клал голову на плечо якута».
Тот же бессмертный Обломов, в роли чиновника «литературной экспедиции», наивно и откровенно выразил мечты русского империализма, активизируя тем самым нарождающийся японский империализм:
«А что, если бы у японцев взять Нагасаки? – писал Гончаров, -- тут, на высокой горе, стоять бы монастырю с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров, крестом, здесь бы хорошо быть складочным магазинам, перед которыми теснились бы суда, с лесом мачт»…
Борясь за мастерскую композицию очерка, надо иметь в виду не только отношение автора к действительности. Множество очерков пишется в рабской зависимости от хронологической последовательности событий: «Мы пришли… товарищ Иванов сказал…». На фактории мыса Дежнева я увидел велосипед с надписью на дощечке из моржовой кости: «Путешественник вокруг света на велосипеде Глеб Травин».
Подвиг Травина оказался исключительно интересным. Он объехал на велосипеде вокруг СССР, и на год раньше «Сибирякова», так сказать, в одну навигацию, прошел, отчасти на велосипеде, чаще таща велосипед на себе, вдоль всего Северного морского пути, от Мурманска до Берингова пролива. Впоследствии я встречал людей, знавших Травина и видевших его на различных участках пути. Я мог бы записать эти интересные сведения в их хронологической последовательности, но это не был бы очерк. Только собрав весь материал в одно целое, объединив его единством мысли и множеством художественных приемов, я написал главу своей книги очерков «Восточный вариант», под названием «Земля стала своей», которая, вероятно, может претендовать на искусство.
То же надо сказать о так называемой «выдумке». Например, совершенно ясно, что герои наших очерков, то есть совершенно реальные герои наших дней, не всегда говорят то, что они действительно говорили, говорят не на том месте, говорят даже то, что думает за них автор. Это вполне понятно, но в этом кроются для очеркистов добавочные трудности. Очеркисты должны знать своих героев лучше, чем героев романов. Со мной был такой случай. Начальник одной из экспедиций на «Красине», тов. Шевелев, прочитав «Выход к морю», заметил:
-- Все это хорошо, но ведь я этого не говорил!
-- Но ведь вы думали именно так, как здесь написано, -- возразил я.
-- Да, это мои мысли.
Чаще же, к сожалению, случается обратное и герои очерков протестуют против измышлений очеркистов.
Без глубокого знания, без активного участия в изображаемой жизни нельзя применять «выдумку». В очерке мы предъявляем особые требования к знанию. Всякая ошибка, всякая халтура в этом отношении совершенно нетерпимы, мы должны беспощадно бить халтуру, «невзирая на лица».
Надо сказать, что в этом отношении у нас неблагополучно. Здесь уже говорилось об отношении арктических моряков к арктическим корреспондентам.
Проф.Визе в рецензии на книгу проф. Н.Н.Зубова заметил: «Она написана языком вахтенного журнала, но все же дает лучшее представление об Арктике, чем корреспондентская халтурщина». В каждом своем выступлении проф.Визе обязательно упоминает об «арктической халтуре».
В повести «Белый кит» я попытался передать мысли такого профессора, читающего арктическую беллетристику и арктические очерки. Отрывок был напечатан в «Литературной газете» под названием «Профессор Медников читает беллетристику». Я приведу только одно описание Арктики из очерка «Дни испытаний», напечатанного в «Известиях».
«Наступила полнейшая тишина, такая, что бывает только в великих просторах Арктики. Кругом абсолютный мрак. Лишь луна серебрит темную поверхность редких полыней. Небо хмурое, с седыми, спешащими куда-то облаками. Льды тихо шуршат, трутся друг о друга, танцуя бессмысленный, крутящийся танец. И вдруг полыхнуло небо и расчертилось блеклой дугой северного сияния, озарив на момент темно-синий небесный свод».
Неудивительно, что начальник экспедиции на ледоколе, прочтя о такой Арктике, вздохнул. -- «Все здесь было свалено в одну кучу. Раз «полнейшая тишина», значит «льды не шуршат». Раз «абсолютный мрак», какая же луна? Когда луна да льды, в Арктике светло, как днем. И от северного сияния светло. Арктическая ночь тем и характерна, что всегда, даже в самое темное время, светла. «Абсолютного мрака» в Арктике никогда не бывает… Потом какое же небо? «Хмурое, с облаками» или «темно-синий небесный свод»? 3
С.Третьяков правильно отметил, что критики не пишут об очерках или пишут так, как «Литературная газета» о Пришвине: «Холодный, сухой» и все. Мы должны организовать критику очерков, в том числе критику со стороны ученых, инженеров, ударников заводов и колхозов. Нам нужна конкретная критика, конкретный разбор работы очеркистов. Здесь хвалили Агапова, но мне казалось, что тов. Шкловский хвалил больше свои собственные литературные теории, чем Агапова. Мне же интереснее побольше узнать об Агапове, чем о теориях Шкловского.
Большинство делегатов, выступивших на Всесоюзном совещании очеркистов, требовали создания при Союзе советских писателей особого органа, который наиболее воинственные из нас называли «штабом очеркистов». Я надеюсь, что этот «штаб» сумеет привлечь внимание к очерку. У Вазари рассказывается: «монахи плохо кормили художников… Тогда Давид вышел из себя, вылил на голову монаха весь суп, потом, схватив каравай хлеба, пустил им в монаха и угодил так хорошо, что его едва живым унесли в келью…».«Тут только аббат понял, -- замечает Вазари, -- что был неправ, и с этого момента старался угождать художникам, как людям, достойным почета, какими они и были».
Метод Давида, mutatis mutandis, будет не бесполезен для будущего боевого содружества очеркистов, о котором мечтал тов.Пришвин и другие выступавшие товарищи. Раз мечта становится всеобщей – она осуществляется.
Примечания
¹ Выступление на третьем пленуме Всесоюзного Оргкомитета писателей до докладу т. Юдина.
² Выступление на Всесоюзном совещании по художественному очерку.
³ Эта «классическая» халтура, почти без изменений, вошла в книгу Б.Громова «Поход Сибирякова» (М. Сов. Лит. 1934г., стр.187). Там же можно прочитать, что Индигирка и Обь впадают в море Лаптевых (стр. 164) и т.п.
Сибирские огни, 1934, №4, 114-125
«Перестройка», сборник, 54с., Новосибирск, Зап.-Сиб. краевое изд., 1935 г.
ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОЙ СИБИРИ ¹
1.
Восприятие дореволюционной Сибири определялось ее положением царской колонии, ссылки и каторги. Крупнейшие художественные произведения о Сибири, написанные в дореволюционном прошлом, созданы писателями испытавшими ужас и гнет царской каторги и ссылки. Стихи Одоевского и других декабристов, «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Предел скорби» Серошевского, повести и рассказы Короленко, Глеба Успенского, Тана-Богораза и т. д. — все эти памятные картины старой Сибири создают образ страны изгнания, холодной пустыни, впечатление «полудикости и самой настоящей дикости».
— «Ужасный край, откуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Нависнет над страной.»
В то же время возникает литература, написанная сибиряками, на которой сказывается колониальное положение страны. В середине прошлого века возникает термин «сибирская литература» в том же смысле, в каком можно говорить об американской, канадской, австралийской и других литературах на английском языке. Рост капитализма в Сибири, «развитие которого шло несравненно быстрее, чем в обремененном крепостническими пережитками центре» (Ленин), его конкуренция с капитализмом метрополии, которому покровительствовала царская бюрократия, и возникшее на этой почве буржуазное областничество, стимулируют известное специфическое обособление сибирской литературы.
Ко времени Октябрьской революции сибирская литература подходит, имея в своем активе ряд .известных писателей, издававшихся как в Сибири, так и в центре: Олигер, Шишков, Гольдберг, Новоселов, Гребенщиков, Вяткин, Драверт, Жиляков, Исаков, Антон Сорокин, Бахметьев, Березовский и др. Период колчаковщины характеризуется наплывом в Сибирь пришлой интеллигенции, среди которой было немало писателей. Одни из них группировались вокруг журнала «Единая Россия», занимаясь воспеванием колчаковщины, темой других было ощущение своей близкой гибели, часть же скрывалась в глухих местах Сибири от контрреволюции. С помощью Новикова-Прибоя и Павла Низового в Барнауле начал издаваться журнал «Сибирский рассвет», стоящий в известной мере на грани двух эпох. В партизанских отрядах, создававших в борьбе с Колчаком значительные красные республики на Алтае, в Минусинском и Канском районах, возникают первые ростки революционной поэзии (П.Петров, Рогозин и др.)
«От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,²
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот,
Свой мозг оставит мостовым».
Так писал колчаковский певец «Пира во время чумы», Георгий Маслов. Поэт минусинских партизан, т. Рогозин, где-то в неведомых тайгах Сибири, противопоставлял изящным масловским виршам, ощущению своей гибели, — счастье борющегося, бессмертного коллектива.
«Услыша вольный голос рога,
Мужик тотчас бросает плуг
И собирается в дорогу:
— В тайгу! Бить трона верных слуг!
Мать починяет однорядку,
Жена несет пятизарядку,
Сын — кабаргиную доху,
А сам наспех седло латает,
На ноги бродни обувает.
Часы невидимо бегут.
Мятежник, наскоро прощаясь
Со всеми, высказал жене:
«Не плачь, Федора, обо мне!
Коль не убьют, так жив останусь,
Убьют — вон Тишка подрастет».
И в горы конь его несет» ³…
Всего несколько лет отделяют нас от Сибири-каторги… Вторая угольно-металлургическая база Советского Союза — Урало-Кузбасс — гордость нашей страны, кладет стальной фундамент для перестройки Сибири каторжной в Сибирь социалистическую. Как бы отвечая великому поэту, один из поэтов-комсомольцев писал в многотиражке строительства Игарского порта:
«Жизнь кипит и за полярным кругом,
Жизнь мы строим сами, ведь —
Север может стать цветущим югом,
Если явь готова молодеть».
Другой сибирский поэт Павел Васильев в начале осуществления первого пятилетнего плана повторял ту же мысль в «Сибирских Огнях»:
«Теперь другие подвиги и вкусы.
Моя страна, спеши сменить скорей
Ты бусы из клыков зверей
На электрические бусы».
Тема превращения отсталой страны в индустриальную, вооружающуюся самой передовой современной техникой, в страну крупнейшего в мире социалистического земледелия, превращения мелкого собственника в колхозника, кочевника — в строителя социализма, малограмотного парня — в научного работника — становится главной темой советской литературы в Сибири…
2.
В последние два года важнейшую роль в деле перестройки советской литературы в Сибири сыграло постановление ЦК от 23 апр.1932 г. о ликвидации РАПП и создании единого Союза советских писателей. В развитие, этого постановления Краевым комитетом партии был вынесен ряд решений, совершенно изменивших литературную обстановку в нашем крае. Писателям обеспечена материальная возможность серьезно заниматься своей работой. Союз писателей, еще недавно таявший в результате «деятельности» литературной группы «Настоящее» и т. п. причин, в настоящее время быстро растет.
В западной Сибири насчитывается около 60 писателей, половина которых являются членами и кандидатами Союза советских писателей, и более 40 литературных кружков, находящихся на учете Западно-Сибирского Правления Союза советских писателей. Большинство этих кружков являются районными литературными объединениями при редакциях газет. В настоящее время в нашем крае выходит несколько литературных приложений к газетам и регулярных литературных страниц, что свидетельствует о совершенно беспримерном культурном росте нашей, еще недавно почти поголовно неграмотной, деревни.
Рост художественной литературы в крае можно иллюстрировать следующими цифрами. В 1932 году, не считая «Сибирских Огней», в крае вышло 4 или 5 книг художественной литературы, главным образом, сборников. В 1933 году вышло 15 книг и кроме того 6 книг на ойротском и хакасском языках, причем печатная художественная литература этих народов появилась вообще впервые. В 1934 году намечено к изданию 30 книг и около 20 книг на языках других национальностей. Этот план не только реален, но в сравнении с тем, что может издать Западно-Сибирский Союз советских писателей, урезан, так как лимитируется исключительно издательскими возможностями.
Журнал «Сибирские Огни», являющийся гордостью писателей Западной Сибири, вступает в тринадцатый год издания. Это второй по времени возникновения литера- турно-художественный журнал в Советском Союзе. Журнал объединяет не только лучших писателей Западной Сибири, но и крупных сибирских писателей, живущих в Москве и др. краях Советского Союза. Так, за истекший год в «Сибирских Огнях» напечатаны рассказы, повести, романы Ис. Гольдберга, Е. Пермитина,
Р. Фраермана, Н. Чертовой и др.
В 1934 г. тираж «Сибирских Огней> поднялся с трех до семи тысяч экземпляров, в первую половину года в журнале напечатаны несколько романов, повестей и рассказов сибирских писателей, являющихся в данное время лучшими их произведениями :«Жизнь начинается сегодня» И. Гольдберга, «Большой Аргиш» М. Ошарова, «Великое кочевье» А. Коптелова, «Трубоклады» Н. Кудрявцева, «Суровый рост» В. Глебова, повести А. и Л. Панкрушиных, поэма «Братский Острог» М. Скуратова ⁴ и.т.д.
Вышли отдельными книгами: роман «Светлая кровь» А. Коптелова и сборник рассказов «Весны», повести и рассказы Н. Кудрявцева — «Тяга времени», сборники стихов И. Мухачева, В. Вихлянцева, Н. Титова.
Роман А. Коптелова «Светлая кровь» написан о строительстве первенца первой пятилетки — Турксиба. В романе ярко показана классовая борьба в далекой --казахстанской степи, куда приходит коллектив строителей. На месте кочевья организуется «казахский колхоз, который переходит к оседлости и участвует в ирригационном строительстве в долине реки Ак-Су. Дорога построена. Изменилась степь, изменились люди. Где была пустыня — там сложная сеть арыков, по которым струится «светлая кровь» — вода. Там, где были унылые, кочевья, выросли колхозные селенья, где росла одна верблюжья колючка, там зреет рис, шумят заросли кенафа.»
Роман интересен широким охватом темы и подлинным интернационализмом, характерным для большинства лучших произведений советской литературы в Сибири.
Та же тема развита А. Коптеловым в романе «Великое кочевье» о советской Ойротии.
А. Коптелов родился на Алтае, он хорошо знает его природу и быт его народов. «Великое кочевье» отражает великий переход недавно отсталых и угнетаемых ойротов к новым высшим формам экономики и культуры. Победа алтайского колхоза приходит после жестокой борьбы с природой и с классовыми врагами, но она прочно завоевана, к прошлому возврата нет…
Интересен роман М. Ошарова «Большой Аргиш». Это первый роман из жизни эвенков (тунгусов). М. Ошаров более 12 лет жил в тайге и тундре Туруханского края и хорошо знает его туземцев. Роман охватывает дореволюционное прошлое края. Вторая, еще незаконченная часть романа, показывает его героев уже после Октябрьской революции. Это также «великое кочевье» — от средневекового быта и самых диких форм эксплуатации, к строительству социализма, пробуждающего гигантские производительные силы Северной Азии.
«Светлая кровь», «Великое «кочевье» и «Большой Аргиш», как мне приходилось отмечать, имеют немало погрешностей, отчасти объясняющихся левацким пренебрежением сибирской критики к вопросам языка и формы, но оба писателя с каждым новым произведением показывают успешное движение вперед и в этой области.
Наряду с качественным ростом известных сибирских писателей, растет и многочисленная литературная молодежь. "Стихи неведомых поэтов, -- писал я еще в начале 1927г.,³ -- приходят с голубых Алтаев и полярных тундр. — В Сибири пишется, вероятно, больше стихов, чем в Европе. Громадные стихотворные папки наших газет и в особенности «Сибирских Огней», замечательное обилие и мастерство частушек говорят о почти поголовной стихотворной «грамотности». Вероятно, это -- влияние коренных национальностей, путешественников и фантазеров, поющих, импровизирующих во все дни своей жизни. Да и сама природа Сибири для выходца из русской скучной равнины, где «ни замков, ни морей, ни гор», глубоко поражает переселенца, обосновавшегося вдоль южных великих кряжей и по течению великих рек. Более мощная, более суровая и красочная Сибирь заставляет говорить о себе, любить и ненавидеть, бороться и творить.
Слесарь села Мало-Бещелак, Бийского округа, просит редакцию указать: «Какие излагать мотивы, какие рифмы и самые лучшие темы. какие недостатки и как нужно разрабатывать вопросы по поэтизму». Рыбак и охотник, Н.Н.Грудницкий, житель полярной Дудинки с очевидностью доказывает, что поэтическое творчество если и замерзает кое от чего, но только не от мороза. «Бывало, прежде чем напишешь слова два-три, чернила на холоде заледенеют на пере. Потаешь их над жировиком и снова пишешь. И это после дневного физического труда. Так же и сейчас. Хотя и в тепле и со светом лампы, но после труда все же — все спят, а я — за стол и пишешь или читаешь, улавливаешь как нужно писать».
«Я безумно люблю писать стихи», — пишет из шахтерского Черемхова т. И. Трухин, — «но плохо знаком с техникой построения ямб, хорей и т. д.»:
Я не сверну с дороги этой,
Ну, что ж, что горы впереди,
Пущай и тучи — мне, поэту,
Дорогой этою идти».
Вот из какой среды, преимущественно, растет молодая поэзия «Сибирских Огней».
Из этой среды вышли такие поэты, как Илья Мухачев, в прошлом крестьянин и рабочий кожзавода. Стихи его просты, доступны пониманию широких масс и некоторые отмечены высоким мастерством.
Мы привыкли к нашим достижениям и порой нам самим их трудно оценить. Недавно Западную Сибирь посетила группа писателей-коммунистов из различных стран света: из Дании, Испании, Америки и Австралии ⁵. Все они просили у меня «Сибирские Огни», чтобы показать журнал в своих странах, как свидетельство культурного роста советской страны и наглядного опровержения буржуазной лжи. По словам наших зарубежных товарищей, нигде в мире, кроме Советского Союза, таких больших литературно-художественных журналов вообще не издается. Что же касается революционных писателей, то им совсем, по большей части, негде печататься. Нам прислал письмо с просьбой выслать «Сибирские Огни» и обмениваться изданиями редактор революционного журнала «Лефт-фронт», издающегося в Чикаго. Журнал этот очень небольшой.
«Если бы я писал большие произведения, как, например, романы, — пишет нам редактор «Лефт-фронта» т. Джордан, — было бы очень трудно добиться, чтобы они были напечатаны. Мы пишем и выпускаем наши произведения при наличии неофициальной цензуры, задачи которой — возможно сильнее ограничить их распространение. Мы можем появляться в печати только при помощи наших собственных изданий, каким является «Лефт-фронт». Обнищавшие массы не могут покупать больших журналов.
«Я только что вернулся с конференции революционных фермеров, — продолжает
т. Джордан. — Условия жизни и фермеров в нашей стране очень плохи. Они работают целый год для того, чтобы обнаружить в конце его, что, продав хлеб и свиней, они не могут окупить даже съеденную пищу и купленные семена. Многие из фермеров взяли ссуды под свои фермы и не в состоянии выплатить их или даже уплатить проценты за взятые деньги. Тысячи ферм были конфискованы крупными банкирами за неуплаченные ссуды и тысячи других были проданы за неуплаченные долги.
Все это верно в отношении фермеров, владеющих собственными фермами. Кроме того, здесь есть миллионы других фермеров — негров и белых, молодых и старых, которые работают на богатых фермеров или фермерскую корпорацию и едва зарабатывают на жизнь. Они вынуждены носить изорванные в клочья лохмотья и полуумирают от голода, особенно на юге. Миллионы фермеров-негров на юге находятся в состоянии фактического рабства. Они не могут оставить ферму и хозяина, так как находятся у него в долгу»…
…Непрерывный и быстрый рост… культурного уровня… создает почву для огромного, невиданного ни в одной стране, ни в какое время, спроса на книгу. Советский Союз читает сейчас больше всех прославленных своей культурностью Европ и Америк.
После первого краевого съезда Союза советских писателей, бригада писателей, во главе с Феоктистом Березовским, посетила Кузбасс. На литературном вечере в Кемерово старый шахтер т. Большаков, заявил:
— «Тов. Березовский, когда Вы будете в Москве — передайте Максиму Горькому и всему писательскому съезду наш братский шахтерский привет! Мне 55 лет, я читал М. Горького, читал Шолохова, читал Березовского. Сейчас мы просим писателей уделить большое внимание нашим лучшим людям, надо показать в художественных произведениях наших ударников, людей нашей эпохи. В частности, т. Березовского и его товарищей просим приехать к нам на более продолжительное время, пожить с нами, поработать среди нас».
Вечер затянулся до 2 часов ночи, так много было выступлений и вопросов к писателям.
О том же внимании и любви к художественной литературе свидетельствует, например, организация колхоза в Троицком районе Западной Сибири, принявшего имя краевого литературно-художественного журнала — «Сибирские Огни».
Книги, о которых я упоминал, изданные тиражом от 5 до 10 тысяч, а также все номера „Сибирских Огней», разошлись за 2-3 месяца. Во многих наших районных центрах подписчики так и не получили журнала, несмотря на все их усилия.
3.
Здесь и начинается «обратная сторона медали». В свете этих фактов наша книжная продукция превращается в отсталый участок фронта культуры.
Необходимо увеличить мощность полиграфической базы и издательства в Новосибирске, а главное — улучшить качество книги. В этом отношении Западно-Сибирский край оказался самым отсталым. На Всесоюзном конкурсе краевой книги продукция Западно-Сибирского отделения ОГИЗ'а заняла первое место. с конца.
«Надо ли говорить, что чем совершеннее орудие, тем лучше оно обеспечивает победу» — сказал тов. Горький в заключительном слове на Всесоюзном съезде советских писателей. «Книга есть главнейшее и могущественнейшее орудие социалистической культуры. Книг высокого качества требует пролетариат, наш основной многомиллионный читатель».
Между тем, мы не можем еще удовлетворить самых элементарных потребностей читателей и не столько от недостатка книг, сколько от обилия невежества и тупости иных бюрократов.
Докладчики и делегаты «Первого краевого совещания работников библиотечного дела», собравшиеся в июле 1934 г. в Новосибирске, рассказывали.
«В Белово за короткое время библиотеку перебрасывали три раза — не успеют рас-ставить книги, как уже предлагают перейти в другое помещение. В Старо-Бардинском районе библиотеку выбросили на улицу, а помещение библиотеки председатель райисполкома приказал отремонтировать себе под квартиру. В Беловской районной библиотеке из 2000 книг осталось 600. а в Баевском 168. В Троицком районе, по словам его делегата, районная библиотека существовала, но работы никакой не было, было только повседневное расхищение книг. В Тальменском районе вся литература настолько затрепана, что превратилась буквально в лапшу, ремонтировать книги невозможно. Не лучше обстоит дело и в некоторых промышленных районах, — так, например, в Прокопьевске 16 тысяч книг «уплыли неизвестно куда». Во многих библиотеках наличие книг не проверялось в течение 5-8 лет. Много вреда принесли головотяпские «чистки» книжных фондов. Даже в университетском Томске, «вычистив», расхитили и разбазарили 8 тысяч книг, в том числе немало классиков, книги Ленина, Плеханова и др. Головотяпство здесь явно переплеталось с вредительством ⁶. Сметные ассигнования или резко сокращались, или утверждались, но оставались на бумаге. Библиотека Омского клуба строителей из отпущенных 5000 рублей израсходовала на приобретение книг. 26 копеек!»
Делегаты Всесоюзного съезда советских писателей от Западной Сибири посетили несколько передовых московских заводов. В библиотеках Электрозавода, Шарикоподшип-ника, автомобильного завода и др. лучшие произведения советских писателей насчитывались в сотнях экземпляров каждое и библиотекари жаловались на недостаток книг. Во время же своих отчетных докладов о съезде писателей в Сибири, делегаты съезда узнали, что в Сталинске, в десять раз более многолюдном, чем крупнейший московский завод, те же произведения представлены в единственных экземплярах.
«Доменщик Горностаев после доклада о съезде сказал:
— Низовые организации, особенно профсоюзные, все еще недооценивают значения художественной литературы.
Рабочий ТЭЦ, т. Иванов, пожаловался:
— Я большой любитель читать книги. Я почти всех писателей читал. Теперь читаю в открытую. А год тому назад приходилось читать тайком. Увидит секретарь ячейки и скажет: А, ты романчики читаешь?. И посмеется — дескать не делом занимаешься ⁷.
На Всесоюзном съезде советских писателей выступил начальник Главного управления Северного морского пути О.Ю. Шмидт. Он рассказал о жизни челюскинцев на льдине и, между прочим, о том, как вместе с самым необходимым, включенным в аварийный запас, с потонувшего корабля было спасено несколько книг. На «Челюскине» находились строительные рабочие-сезонники, нанятые с целью постройки зданий на острове Врангеля, который не был достигнут экспедицией. Сезонники являлись наиболее отсталой частью коллектива «Лагеря Шмидта» и, естественно, вызывали опасения его руководства. Тогда помощник начальника экспедиции тов. Баевский начал читать строителям Пушкина.
«Чтение Пушкина, — говорил т. Шмидт, -- стихи которого строители слушали в долгие полярные ночи с огромным вниманием, сыграло большую воспитательную роль. Конечно, Пушкин не имел непосредственного отношения к строительству социализма, но громадное художественное мастерство его поэзии волновало слушателей, расширяло их кругозор, они начинали более резко ощущать связь коллектива челюскинцев с жизнью всей советской страны, начинали более четко осознавать, что свою личную маленькую судьбу нельзя рассматривать в отрыве от общей судьбы, от интересов коллектива и страны в целом».
В этом маленьком рассказе большая мысль. Проф. Шмидт ярко показал силу художественного слова и силу качества искусства.
План второй пятилетки намечает почти удвоить библиотечную сеть в Советском Союзе. В нашем крае, где возникло и возникает много новых населенных пунктов, процент роста должен быть еще выше. Необходимо реорганизовать краевую научную библиотеку, получающую обязательный экземпляр, в краевую публичную библиотеку и немедленно предоставить ей вполне подходящее помещение, так как ни одно из существующих культурно-просветительных учреждений не может сравниваться по значению с такой библиотекой. Необходимо поставить вопрос о создании такой же крупной библиотеки, получающей обязательный экземпляр, по крайней мере, и в Сталинске.
4.
«Сибирской литературы» в том смысле, в каком можно было употреблять этот термин в колониальном прошлом, нет. Существует единая советская литература, строителями которой в известной мере являются и так называемые «сибирские писатели». Нет «сибирской литературы», но есть советская литература в Сибири, в Западной Сибири, Восточной Сибири и ряд национальных литератур. Возникновение Восточно-Сибирского края привело к возникновению в Иркутске нового литературного центра и нового литературно-художественного журнала «Будущая Сибирь», объединившего литературные силы на востоке (И. Гольдберг, П. Петров, И. Молчанов и др.).
До сих пор «Сибирские Огни» и «Будущая Сибирь» являлись для советских писателей своего рода трамплином для выхода в центр, но все чаще раздаются голоса против «па- рижского характера» (выражение А. В. Луначарского) нашей культуры, который со- вершенно несвойственен Советскому Союзу. В статье о Сибири, напечатанной в «Правде» десять лет тому назад, А. В. Луначарский противопоставлял «парижскому характеру» культуры американский, отличающийся наличием не одного, а многих крупных культурных центров, распространяющих свое влияние на всю страну.
Сейчас, когда мы на деле создаем новые промышленные центры, приближая производительные силы к сырьевым ресурсам страны, замечание т. Луначарского приобретает, несомненно, более актуальное значение.
Это, не значит, конечно, что в современных условиях писатели должны быть расселены по нашей необъятной стране. Вопрос ставится именно в плане строительства новых центров культуры. Среда, взаимозаражение творческими влияниями, культурное наследство играют здесь решающую роль. В Западной Сибири, например, неблагоприятным условием является то, что университет, лучшие вузы, музеи, библиотеки, художественная школа находятся в Томске и Омске, а большинство писателей и художников живут в Новосибирске. Я полагаю, что университет в центре края нужен нам уже по тем мотивам, какие побудили советское правительство перевести в Москву Академию Наук.
Вероятно, строительство новых центров советской культуры будет идти в первую очередь в наиболее крупных центрах отдаленных и своеобразных советских областей, в частности, в РСФСР: на Кавказе, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Именно в центрах этих областей Академия Наук СССР создает свои отделения.
Величайший писатель современности — Максим Горький -- всегда обращал внимание на развитие культуры в областных центрах Советского Союза.
«Если вам удастся организовать бригаду энергичных огнелюбов, — писал он мне в редакцию «Сибирских Огней», — да вместе с ними привлечь работать побольше молодежи и пригреть ее внимательным, дружеским к ней отношением, дело пойдет отлично. Смысл дела — воспитание областной культурной интеллигенции. Очень хорошо помню ваши верные и меткие слова о «парижской культуре» — они ко многому обязывают вас».⁸
В докладе на съезде советских писателей Горький подчеркнул, что «критика, что очень важно, не интересуется ростом литературы областной».
Не так давно т. Горький писал в приветствии по поводу 30-летия литературной деятельности Исаака Гольдберга:
«Мне кажется, что я довольно четко и живо могу представить, что значит и сколько сил требует 30-летняя работа в области литературы за пределами внимания литераторов и критиков «центра». Известно, что критики и литераторы отличаются постыдным и непонятным безразличием по отношению к литературе областей и союзных республик».
Справедливость требует сказать, что «постыдное безразличие», о котором говорил Горький, относится не только к критикам. На выставке «16 лет советской литературы», открытой в дни съезда советских писателей, не было ни одной книги, изданной в краях и областях.
В статье «235 незнакомцев», напечатанной в литературной газете ⁹ под влиянием высказываний т. Горького, Вл. Никонов пишет:
«Можно сказать, что внимание наших критиков обратно пропорционально квадрату расстояния, т.-е. убывает в геометрической прогрессии по мере удаленности писателя от Москвы. Чем иным объяснить, что у нас совершенно проглядели хороший роман Ошарова «Большой аргиш», напечатанный в «Сибирских Огнях» (Новосибирск)? В прош-гом году «Подъем» (ЦЧО) печатал интересную повесть Леонида Завадовского «Великая драга», -- выйди она в Москве, о ней бы говорили и писали статьи, а сейчас нет не только рецензии, но и нет единого упоминания. Ее совсем не заметили, хотя и по материалу (борьба за советскую золотопромышленность на Алдане), и по мастерству произведение заслуживает серьезного внимания, да и автор не начинающий писатель».
Уже это показывает, как несостоятельно высокомерное игнорирование провинций, еще свойственное ряду наших литературных работников.
Жаль, что у нас почти не заглядывают в краевые журналы, — и писатель, и литературовед, и широкий читатель найдут в них много интересного и необходимого для себя.
А попробуйте достать их комплекты или отдельные номера в Москве (даже заслуженные «Сибирские огни»). Не только Москва, но и края совершенно не видят и не знают соседей: до литературного Сталинграда не доходят ни «Волжская новь», ни «Натиск», точно так же, как в Самаре и Горьком не найти «Нижнее Поволжье». В какой другой области нашего строительства еще возможна подобная ограниченность?
С этой «провинциальной ограниченностью» нашей литературы мы должны бороться непримиримо. Капитализм уродовал стремление к прекрасному, социализм должен обеспечить развитие дарований повсюду. Мы должны создавать свою литературу так же, как новые заводы, овладевая высотами техники. Плохи, отмечены особой отвратительной печатью «провинциальности», книги, выходящие вне Москвы и Ленинграда; но разве так трудно добиться высокого качества нашей полиграфической промышленности? Некоторые издательства, например, Восточно-Сибирское, уже доказали, что в Иркутске можно издавать книги не хуже, чем в Москве. Плохи многие наши писатели: но разве допустимо издавать плохие книги с расчетом на «скидку» — с нас, мол, большего и требовать нельзя? Что нам сказали бы, если бы Кузнецкий металлургический завод стал выпускать рельсы с такой «скидкой»?
В заключительном слове на съезде писателей т. Горький говорил:
«Нам необходимо обратить внимание на литературу областей, особенно Восточной и Западной Сибири, вовлечь ее в круг нашего внимания, печатать в журналах центра, учитывать ее значение, как организатора культуры»…
…Классическая литература запечатлела Сибирь-каторгу, Сибирь — «предел скорби». Путешественник Геденштром писал, что образование вредно народам Сибири, ибо, осознав свое положение, они найдут его невыносимым. Пятнадцать лет советской власти в Сибири преобразили лицо нашей родины. Сибирь советская превратилась в страну с крупнейшей социалистической промышленностью, развитым социалистическим сельским хозяйством и культурным населением. Чукча с мыса Инцова, сын чукчей, которых участники похода «Таймыра» и «Вайгача» называли дикарями, на вопрос, какая будет, по приметам, погода, ответил вопросом: «А как у вас барометр показывает?» Пять лет назад в нашем музее можно было видеть единственное железное изделие старого Кузнецка — пилу, которой, при интервенции, распиливали живых людей. Теперь на этом диком месте встал …металлургический гигант ¹⁰, фундамент социалистической культуры.
Советские писатели Западной Сибири ставят своей задачей отразить в художественных произведениях великий процесс превращения Сибири каторжной в Сибирь социалистическую, отразить выполнение плана второй пятилетки и ее героев, показать, что все наши победы возможны только в стране победившего пролетариата …
Перед союзом писателей возникают новые и ответственные задачи. Лучшие писатели Сибири сознают, что все сделанное ими очень мало, несмотря на отдельные успехи, в сравнении с тем, что требует от нас великая эпоха.
Первый съезд советских писателей прошел под лозунгом: «повысить качество работы». О качестве говорил т. Горький, о качестве говорили докладчики съезда т.Бухарин и т.Радек, о качестве говорил французский писатель Андрэ Мальро, качества требовали делегаты многочисленных республик СССР .
После своего первого съезда, ставшего мировым съездом, советские писатели прониклись глубоким желанием писать еще лучше, осуществлять проблемы еще более дерзновенные.
Может быть, некоторых испугает штурм высот и они останутся внизу. Тем лучше. Пусть никто не думает, что работа художника легка. Тех же из нас, кто идет на препятствия, несмотря на все муки, будут вести вперед и выше слова Максима Горького, закончившие съезд.
«За работу товарищи!
Дружно, стройно, пламенно — за работу!
Да здравствует дружеское, крепкое единение работников и бойцов словом, да здрав- ствует всесоюзная красная армия литераторов!
И да здравствует всесоюзный пролетариат, наш читатель, — читатель друг, которого страстно ждали честные литераторы России XIX века, и который явился, любовью окружает нас и учит работать!.»
Книга и пролетарская революция, 1933, № 9
Сибирские огни, 1934, №5, 88-96
Литературная газета, 1934, №№ 34, 84, и 100
Примечания
¹ Переработанный доклад, подготовленный I Всесоюзному съезду советских писателей.
² Вальсингам -- герой трагедии А.С.Пушкина «Пир во время чумы», человек, раздавленный страхом смерти, одержимый ужасом перед «бездной мрачной», на краю которой он оказался, и решившийся на бунт.
³ «Поэты и критики», «Сиб. Огни», № 2, 1927 г.
⁴ Печатается в №: 6 «Сиб.Огни».
⁵ Из Австралии приезжала известная писательница К. Причард.
⁶ Бывший зав. Томским КрайОНО и б. зав. библиотекой приговорены нарсудом к лишению свободы.
⁷ См. А. Коптелов и Н. Кудрявцев. Съезд продолжается.
⁸ «Сибирские Огни», № 1, 1933 г.
⁹ Москва, 4 октября 1934 г.
¹⁰ Кузнецкий металлургический комбинат в г.Новокузнецк.

А. М. Горький с группой писателей-сибиряков на I съезде писателей в 1934 году. Сидят слева направо: В. Я. Зазубрин, А. М. Горький, В. Д. Вегман, А. А. Караваева; стоят: А. Л. Коптелов, А. А. Ансон, П.П. Петров, В. А. Итин, М. И. Ошаров, И. И. Молчанов-Сибирский, В. А. Вихлянцев, Г. А. Вяткин.

Выборочный тематический библиографический список
произведений В.А.Итина
Солнце сердца (стихи). -- Новониколаевск: Изд-во «Сибирские огни». 1923. – 80 с.
Вьюжные дни (стихи, сборник). -- Новониколаевск: Сибкрайиздат. 1925. – С. 85-93
Стихи. – Минск: «Книгосбор». 2007. – 76 с.
Страна Гонгури (Открытие Риэля). -- Канск: Гос. изд-во. 1922. – 86с.
-- Сб.повестей. -- Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. 1983. – С. 20-84.
-- Канск: Канский краевед. Музей. 1994. – 110 с.
Открытие Риэля (вариант). -- Сибирские огни (Новосибирск): 1927. -- №1. –С.62-91.
-- Высокий путь (сб.). -- М.-- Л.: ГИЗ. 1927. – C. 174-221.
-- Страна Гонгури (сб.). -- Красноярск: Кн. изд-во. 1985. – С. 14-64.
-- Советская фантастика 20-40-х годов. – М.: Правда. 1987. – С. 191-238.
Die Entdeckung Riels (Anthologie). Berlin: Das Neue Berlin. 1980, 1981. -- S.380-444.
Hamburg: Hohenheim. 1987, 1988. – S.380-444.
Урамбо. Повесть. – Сибирские огни (Новониколаевск): 1923. -- № 5-6. – С. 3-28.
Власть (пьеса в одном действии). -- Сибирские огни, 1922, №4, С. 59-67.
Сон Люцифера (глава из романа"Конец страха"). -- Сибирские огни, 1933, № 9-10, С.130-134.
Ананасы под березой (глава из романа"Конец страха").-- Сибирские огни,1933, № 1-2,
С.85-95.
Каан-Кэрэдэ. Повесть. – Сибирские огни (Новосибирск): 1926, №1-2, С. 89-98.
-- Высокий путь (сб.). -- М.-- Л.: ГИЗ. 1927.
-- Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во. 1961. – С. 157.
-- Страна Гонгури (сб.). -- Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. 1983. С. 85-160.
Люди (Высокий путь). Рассказ. -- Сибирские огни, 1927, №4, С. 3-18.
-- Высокий путь (сб.). -- М.- Л.: ГИЗ. 1927.
Страна будущего (глава из романа «Чистый ветер»). -- Сибирские огни, 1929, №1, С.3-18.
Енисей (глава из книги «Страна будущего»). -- Сибирские огни, 1929, №6, С.3-20.
Выход к морю (очерки). М.: Федерация;1931, 224 с.
– 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Зап.- Сиб. краев. изд.,1935.- 249 с.
Белый кит. Повесть. Новосибирск: Зап.-Сиб. краев. изд.-во, 1933г.,78 с.
Страна Гонгури (сб.повестей). Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд.-во, 1983, С. 161-236.
Завоеватели Северного полюса. -- Сибирские огни, 1938, № 1, с.113-130
Какой путь? О проекте Великого северного пути в связи с выходом на Урал и Северным
морским путем: (Сб. ст.). -- Новосибирск: Огиз, Запсиботд., 1931, 72 c.
Соавторы Лазарев Н., Том А.
«Художественный проект» и задачи дня. -- Сибирские огни, 1931, № 1, С.107-115;
-- № 2-3, С. 91-99.
Полярная навигация на востоке. -- Сибирские огни, 1932, № 5, С. 89-106;
-- № 6, С. 98-102.
Морские пути советской Арктики. М. -- Сов. Азия, 1933, 106 c.
Северный морской путь и Карские экспедиции.-- Новосибирск:Зап.-Сиб. краев. изд.,1936.-
230 с. Соавтор Сибирцев Н.
Колебания ледовитости Арктических морей СССР. --1936. Соавтор Н. Сибирцев.
Драгоценные секунды. – Сибирские огни, 1936, №4, С. 125-129
Моя встреча: о встрече с М.Горьким. -- Сибирские огни, 1928, №2
Две встречи с Максимом Горьким . -- Сибирские огни, 1932, № 11-12
А.М.Горький – В.А.Итин: (Переписка). – Литературное наследство Сибири. т.1.
-- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во. 1969. – С.35-46.
М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах. -- М.: Госуд. изд. худ. лит, 1955. т.30. Письма,
телеграммы, надписи 1927-1936.
Воспоминания о А.М.Горьком. Друг и учитель. -- Сибирские огни, 1936, №4, С.111-112.
Рецензия на сборник Н.С.Гумилева «Огненный столп». -- Сибирские огни (Новониколаевск),
1922, № 4, С. 197.
Поэты и критики. -- Сибирские огни, 1927, №2, С.207-229.
Десять лет «Сибирских огней». -- Сибирские огни, 1933, №1-2, С.148 -156.
Литература и критика. -- Сибирские огни, 1934, №4, 114-125.
-- Перестройка, сб., 54с., Новосибирск, Зап.-Сиб. краевое изд-во, 1935 г.
Литература советской Сибири. -- Книга и пролетарская революция, 1933, № 9.
-- Сибирские огни, 1934, №5, С. 88-96.
-- Литературная газета, 1934, №№ 34, 84, и 100.
Более подробная библиография произведений Вивиана Азарьевича Итина – на сайте В.И.Борисова «Архив БВИ» http://bvi.rusf.ru/bibli/bi002.htm .
______
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вивиан Итин. Проза поэта (Л.В.Итина, В.Е.Ямайкин).3
Певец Северного морского пути (С.Д.Лаппо).18
Страна Гонгури .26
Урамбо .78
Власть .105
Сон Люцифера .116
Ананасы под березой .123
Люди .139
Советская Мангазея .156
Страна будущего …………………………………………….……….174
Енисей .189
Город, где дождь лил сорок дней и сорок ночей, а воду покупали заграницей .211
Гибель «Чукотки» .224
Земля стала своей .244
Драгоценные секунды.269
Нордаль .276
Завоеватели Северного полюса .281
Две встречи с Максимом Горьким .305
Переписка Вивиана Итина с Максимом Горьким .310
Воспоминания о А.М.Горьком.324
Поэты и критики .326
Десять лет «Сибирских огней» .352
Литература и критика .364
Литература советской Сибири .373
Библиография .386
Комментарии читателей:
« Предыдущее произведениеСледующее произведение »
ded
14.05.2015 16:37:29
"Вивиан Итин – студент университета. Петроград."
на фотографии студент, но не университета.
если это действительно Вивиан Итин, то студент Психоневрологического Института.